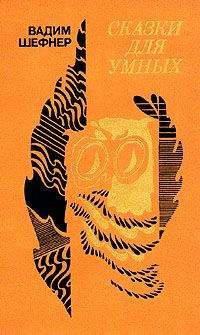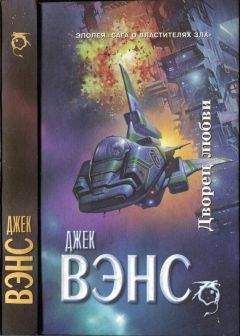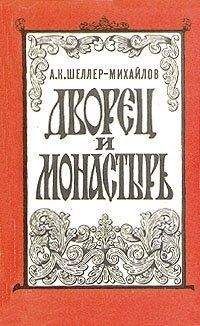Вадим Волобуев - Кащеево царство
На четвёртый день ему попалась неясыть. Белая птица сидела на ветке молодой высокой сосны и, не поворачивая головы, смотрела на него большими круглыми глазами. Худое это было предзнаменование, однако Упырь так оголодал, что ему уже было всё равно. Затрясшись от вожделения, он остановился как вкопанный и медленно опустил мешок с идолицей. Затем осторожно потянул со спины лук. "Неясыть" - от слова "не есть", в Новгороде это каждый знал, потому даже распоследние отщепенцы не трогали эту птицу. Но голод - не тётка. Ушкуйник натянул тетиву, старательно прицеливаясь, а неясыть вдруг сорвалась с ветки и, расправив крылья, скрылась в переплетении крон.
- Тьфу ты, вот незадача, - расстроился Упырь.
Он так устал и ослаб, что с трудом волочил ноги. В голове его начали роиться странные мысли. Боязнь умереть от голода в студёной тайге заставляла ушкуйника лихорадочно соображать. Иногда ему казалось, что лучше вернуться к югорцам и отдать им Бабу. Они ведь не знают, кто её украл, могут счесть его спасителем идолицы и даже наградить. Но жадность брала своё, и Упырь отгонял от себя коварную мыслишку.
Иногда ему думалось, что можно пойти к своим - наверняка они ещё сидят в своём стане. Если новгородцы заполучат в свои руки Золотую Бабу, то на радостях позабудут обо всём на свете и не станут задавать лишних вопросов. Так думал Упырь, изведённый до предела неотступным голодом и холодом.
По ночам его преследовали видения. Ему снилась еда, много еды, но всякий раз, когда он хотел схватить её, приходил кто-то и отнимал у него пищу. Горько и обидно было ему видеть, как другие лопаются от жира, а он грызёт кору и пьёт растаявший снег. Иногда в вечернем сумраке мерещились вятшие люди: Яков Прокшинич, Сбыслав Волосовиц, Ядрей. Они выходили из-за деревьев, смотрели на него укоризненно, словно он ограбил их или убил. Упырь истово крестился, лепеча посиневшими губами: "Свят, свят", и призраки таяли в морозном воздухе. Несколько раз ему представлялся Буслай: сотник вставал у него на пути и сурово грозил шестопёром.
- Забрал Бабу-то. Не поделился с товарищами.
- Моя эта Баба, - огрызался Упырь. - Сами виноваты, что не удержали её. А теперь неча пенять.
- Не по братски это. Не по людски.
- Ты мне ещё о братстве будешь молвить! Сам всю жизнь у других отнимал, ни с кем не делился...
- Врёшь ты, Упырька. Я правду ушкуйную свято блюду. Никому от меня обиды не было.
- А кто смердов боярских бить велел? Кто хабар делил, пока вятшие у югорцев пировали?
- Что мне до вятших? Они - чужие. У них и без того добра навалом. Своего не упустят. А ты-то ведь - наш, посадский. И не совестно тебе от товарищей своих добычу таить?
- Совестно было бы, кабы кто другой её взял, а я у него из-под носа умыкнул. А тут всё иначе. Я за эту идолицу на смерть шёл, голову подставлял. Если бы схватили меня, на месте б растерзали. Так что я в своём праве.
- Ублюдок ты. Овца паршивая, - говорил Буслай и удалялся.
На смену ему приходил Савелий, смотрел исподлобья, качал головой.
- Что пялишься? - злобно спрашивал Упырь. - Дуешься, что убил я тебя? А ты-то сам не так ли точно хотел со мной поступить?
- По себе людей меряешь, Упырька. Я-то к тебе злых мыслей не питал.
- А почто Бабой Золотой делиться не хотел? Разве ж не я её добывал?
- А разве спасённой жизни тебе мало? Другую награду хотел? Забыл уже, кто тебя из югорских лап вызволил?
- А ты меня полоном-то не попрекай. Сам-то как его избежал? Товарищей своих предал, а меня в тёмных кознях уличаешь!
- Товарищей предал, а тебя спас. Неужто нет в тебе благодарности?
- Спас-то не из любви, а из расчёта. И неча ангелом прикидываться. Такой же ты козлище, как все мы.
- Такой же, да не такой. Я своих благодетелей не умерщвлял. Югорцам в руки лишь недругов предал. А ты меня, спасителя своего, убил. Гореть тебе за то в геенне огненной.
- Оба там будем. Я - за злодейство своё, а ты - за мерзость, которую по земле рассыпал щедро. Из-за тебя войско наше под стенами града югорского полегло. Кабы не ты, жили бы сейчас и воевода с попом, и боярин Яков, и те молодцы, которых чудины на площади перерезали. На твоей совести всё это.
- Моими грехами свои прикрыть хочешь? - вопрошал Савелий.
- Вздор порешь. Говорю, что ничем ты не лучше меня, Савка. Я, может, и поднял на тебя руку, да только на одного тебя. А ты десятки удальцов загубил. Нет тебе прощения.
- И тебе они не отмолятся, - мрачно обещал Савелий и растворялся во тьме.
Эти и другие разговоры частенько снились Упырю, пока он спал на лапнике возле тлеющих угольев, прикрывшись дерюжным мешком и ветками. Не иначе, югорские духи смущали его, наводили страх, пытаясь выманить идолицу. Упрямство и алчность помогали ему не сломаться, но пришёл день, когда начали тухнуть и они. Адское мление набирало сил; прежде могучее лишь ночью, оно начало являться Упырю и днём. Ушкуйник упрямо шёл вперёд, твердя заговор от нечистой силы:
- Плакун, Плакун! Плакал ты долго, а выплакал мало. Не катись твои слёзы по чистому полю, не разносись твой вой по синему морю, будь ты страшен бесам и полубесам, старым ведьмам киевским, а не дадут тебе покорища, утопи их в слезах, да убегут от твоего позорища, замкни в ямы преисподние. Будь моё слово при тебе крепко и твёрдо век веком.
Демоны сигали с ветки на ветку, визжали и охали, но приближаться не смели, держась где-то на границе обзора. Лишь когда темнело, из-за облепленных заледеневшими лишайниками стволов вылезали огромные мохнатые существа с треугольными головами и когтистыми лапами, они рычали, стонали, наводили на ушкуйника чары, но Упырь, прижав к себе мешок с Золотой Бабой, лихорадочно бормотал молитвы и старался не глядеть на них. Ветки поскрипывали, качаясь под весом собакоголовых птиц. Взмахивая крыльями, они разевали клювы и пронзительно каркали. Под еловыми комлями шевелилась земля, деревья высовывали наружу корни, шевелили ими, перекручивали, словно силились дотянуться до Упыря.
- Отдай, отдай, - нашёптывали бестелесные голоса.
- Нет. Никогда, - отвечал ушкуйник, обхватывая обеими руками изваяние.
- Не отдашь?
- Не отдам.
- Пропадёшь, - шелестели голоса.
- Всё равно не отдам.
И тогда являлся убитый пам в окровавленных одеждах, печально смотрел на обезумевшего ратника и, вздыхая, разевал рот в беззвучном вопле.
- Не взять меня вам! - отбрехивался Упырь. - Мой Господь завсегда ваших демонов поборет.
Он хихикал как сумасшедший, а помутнённый от голода и усталости разум подкидывал ему образы один страшнее другого. То ему казалось, что он проваливается в выгребную яму, то представлялось, будто с него заживо сдирают кожу, то мерещилось, что его грызёт собачья свора.
- Отдай, отдай, - навязчиво шептали голоса.
- Не отдам, - хрипел ушкуйник, упрямо пробивая себе дорогу к Камню.
- Тогда жди волкодлака.
И действительно скоро явился волкодлак. Он выскочил из соснового бурелома на луговину и, сделав два шага навстречу Упырю, остановился. Холка его трепетала и ершилась от голодного вожделения, в горле угрожающе урчало, а лапы, глубоко проминая снег, оставляли в нём чёткие выщербины от когтей. Упырь замер. "Неужто смерть моя пришла? - подумал он. - Или это - очередной бес, пришедший устрашить меня?". Он прошептал молитву и на всякий случай извлёк из чехла нож. Руки его тряслись от слабости, перед глазами всё плыло, верёвка от мешка стягивала шею. Волк оскалился и боком двинулся по краю луговины, явно готовясь к прыжку. Упырь не сводил с него глаз, неловко поворачиваясь вслед за хищником. "Волкодлак, - всплыло у него в памяти. - Ежели это - волкодлак, то нож против него не поможет. Тут надобен крест". Эта безнадёжная мысль промелькнула в голове и потухла, не пробудив даже страха. Всё умерло в Упыре, кроме отчаянного желания жить, но даже и это желание проявлялось в нём с каким-то запозданием, с безразличием каким-то, будто и не о нём шла речь, а о ком-то другом, чужом и неважном. А зверь вдруг издал короткий рык и, присев на мгновение, наскочил на Упыря. Ушкуйник не мог увернуться - лыжи мешали. Нож вылетел у него из руки, мешок соскользнул с шеи, а сам он оказался придавлен тяжёлым мохнатым телом. Горящие алчные глаза нависли над ним, мощные зубы заклацали где-то над самым ухом. Упырь забился в звериных объятиях, заворочался, пытаясь скинуть с себя эту тушу, но волк был куда сильнее. Он раздирал когтями одежду русича и больно драл грудь; он наваливался на ушкуйника всем своим весом и тянулся клыками к горлу. Красная пелена начала застилать взор Упыря, в ушах зазвенело, руки и ноги налились кровью. "Неужто всё? - думал он. - Неужто конец?". Волчьи зубы уже готовы были сомкнуться на его глотке, но зверь вдруг отчего-то замер. Отвернув морду, он засопел, бросил ушкуйника и сиганул к мешку. Вытолкал оттуда золотую идолицу, уставился на неё, а потом вдруг завыл, словно узнал её. Оборвав вой, ощерился, посмотрел недобро на лежащего человека и опять придавил его всем лапами. Дико заорал Упырь, выгибаясь от боли, когда волк принялся рвать его плоть зубами. Краем глаза увидел он обрывки собственной кожи, разбросанные тут и там. На снегу пшеном разлетелись красные капли. Нестерпимая мука выдавила слёзы из полуослепших глаз. Упырь застонал, моля Господа о смерти, но тут откуда-то донёсся глухой свист, и волк, захрипев, повалился на землю. В боку его торчала стрела. Суча лапами и плюясь пеной, зверь тихонько заскулил. Упырь отвернул от него лицо. Под размашистой веткой беломошника стоял лучник-чудин. Лицо его показалось ушкуйнику смутно знакомым, но разум был так измучен болью и голодом, что он уже не успевал припомнить, кто это такой. Затухающим взором он видел, как лучник приблизился к нему, потоптался, внимательно глядя в глаза, затем подступил к волку и, что-то сказав на своём языке, достал из-за пояса топор. Сил повернуть голову у истекающего кровью новгородца уже не было. Краем глаза он заметил, как чудин взмахнул топором, наклонился, поднял отрубленную голову зверя. Тут пелена окончательно накрыла русича, и он понял, что скоро предстанет перед Господом. Страх умереть без исповеди, на какой-то богом забытой луговине, заставил его из последних сил выблевать из себя слова: