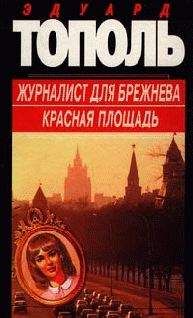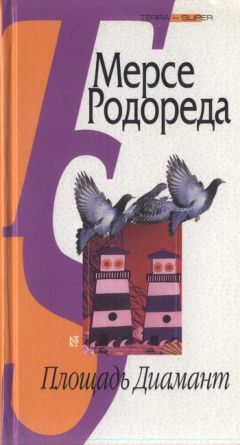Владимир Аренев - Круги на Земле
Он еще говорит о чем-то, не замечая, как нахмурился, глядя на свою руку, друг детства.
Потом Витюха отбирает у Игоря сигарету и машет в ту сторону, откуда пришел:
— А я вось сабрауся сена раскидаць ды падсушыць — а тут зноу хмары! Што робицца! Эх!..
Словесное половодье снова набирает силу.
Игорь ухитряется как-то вклиниться в монолог неудачливого «сенокидалы» и спрашивает, не видел ли тот чего-нибудь странного на полях.
— А-а, — понимающе протягивает Витюха, и бык не менее понимающе подмигивает с его футболки. — Ты гарацкий, да? З газеты прыехау?
— Знакомься, Хворостина — Игорь Всеволодович, из самой столицы прикатил, чтобы вашими феноменами заняться. Поэтому отнесись к господину корреспонденту со всей серьезностью и не пытайся вешать на уши лапшу, как ты это любил, помнится, делать.
— Хто?! — возмущению Витюхиному несть предела. — Я?! Лапшу?!! Ды…
Но под насмешливым взглядом Журского буян затихает и даже постепенно переходит на цензурную лексику. Преимущественно цензурную.
— Короче, быу я давеча на палях. Кала Струйнай, ишоу, як зараз, з грабельками. Ну и… по вяликай нуждзе да бережка спусциуся. А грабельки наверсе пакинув — чаго их з сабой цягаць? Я ж тут, побач — нихто не забярэ, а забярэ — не уцячэ.
Ну от. Сяджу, значыць, на беражку, думу думаю. Я яшчэ накануне штось такое зъеу…
— Слышь, Витюха, ты когда-нибудь газеты читаешь? Телевизор смотришь?
— Ну? — непонимающе моргает тот; бык с футболки обиженно сопит.
— Ты где-нибудь видел, читал, чтобы о таких подробностях писали или по телевизору рассказывали? Так что, если можно, давай ближе к делу. Лады?
Витюха растерянно дергает плечом:
— Лады… Дык аб чым гэта я?
— Штось зъеу, — напоминает Игорь. Он очень недоволен, что Журский прервал рассказчика: Бог с ним, со временем, но крайне важно дать человеку выговориться (и тем самым расположить его к себе). — Штось «такое»…
— Ага, — подхватывает Витюха (и бык на футболке воодушевленно подмигивает слушателям, мол, не боитесь, сейчас все расскажем!), — зъеу. И таму доуга сядзеу. …Ну, не так, штоб очань. Але ж.
А чутна було гарна. Ни шумочъка. Таму я и удзивился, кали граблей не знайшоу.
— Как? — шепчет Остапович, на лице которого отображается живейший интерес (хотя Игорь подозревает, что грабленосец может попросту морочить ему голову).
— Отак! Не знайшоу.
— Может, ты выбрался не в том месте, с бережка? — поднимает левую бровь Юрий Николаевич. — Перепутал?
Половодье.
В кратком пересказе: перепутать не мог, ибо, спускаясь, надломил ветку росшего рядом куста — по ней и ориентировался.
Схлынуло.
— Так я пра што кажу… Граблей няма, а на йих месци — пустата. Разумееце?! Пустата!
— И что ты дальше делал?
Витюха вздыхает: его не поняли! Он открывает было рот, чтобы еще раз повтороить сказанное, но передумывает. И говорит совсем не то, что собирался.
— Шукау. Хадзиу па-над беражком, думау, можа, пожартавау хтось.
(Игорь мысленно морщится, отмечая в словах Хворостины неумелую ложь — но слушает молча).
— А потам уж зразумеу, што не знайду. Ступиу назад — глянув: ляжаць. На тым жа месцы. Тольки зараз там круг нарысавауся — адзин з гэтых, ну, вы знаеце!
Цяпер усе.
Он просит у Игоря зажигалку и закуривает еще одну сигарету.
Молчат, глядя на предзакатное солнце, на ватные обрывки туч. Где-то далеко, у самого горизонта громыхает — там, наверное, уже начался дождь.
— Такия справы… — роняет наконец Витюха. — Ну, хлопцы, пачапаю я. А ты, Карасек, зайшоу бы у госци, штоль… А?
— На днях обязательно заскочу, — на прощание пожимают друг другу руки, хлопают по плечам.
Когда Хворостина уходит, Журский поворачивается к Игорю:
— Ну, что думаешь?
Тот пожимает плечами.
— Давай лепш плот даробим…
14Вечером, когда вся семья собралась за столом, каждый был преисполнен уверенности в том, что именно принятое им решение — правильно. Теперь они сидели и перебрасывались ничем не значащими фразами, необычайно тихие и умиротворенные.
«Собирались вечерами зимними, говорили то же, что вчера…
И порой почти невыносимыми мне казались эти вечера», — вспомнил Остапович.
Вечер, правда, был летним, но в остальном настроение такое же — словно у старого сонного карпа из пруда в императорском парке.
Журналист рассеянно рассказывал какие-то забавные истории, из обычных, дежурных. Слушатели рассеянно улыбались.
Макс наблюдал за Игорем Всеволодовичем, но уже не так внимательно, как утром или днем. Его сейчас больше заботила старая лестница, лежавшая в траве, у дома покойной ведьмарки. И моток веревки (прочной веревки!).
Макс знал, что следовало бы отказаться от Денискиного предложения. Но он точно так же знал, что ни за какие сокровища мира не отказался бы. И поэтому был спокоен — хотя мальчикам его возраста, вообще-то, не свойственно настолько мудро подходить к жизни, чтобы не сожалеть о том, что уже совершено.
Николай Михайлович, дедушка Макса, за вечер сказал очень мало. Он и так догадался обо всем, хватало услышанного днем и… и еще — он ведь был мужем своей жены достаточно долго, чтобы научиться понимать некоторые вещи без слов.
Он и понимал. Точно так же, как понимал, что не в добрый час сын его решил навестить своих старых родителей, а другой сын — отослать сюда своего сына… вот же, какая путаница выходит!..
Но еще Николай Михайлович понимал, что по-другому просто не могло быть: и сын, и внук приехали именно тогда, когда должны были. И тут ничего не попишешь…
Поэтому Николай Михайлович молчал, предоставив жене право решать. Это не было слабостью, хотя сам он всегда страдал оттого, что не мог ничем помочь супруге в подобных случаях. Но Николай Михайлович — обычный человек, куда уж ему лезть в дела, в которых он ничего не смыслит!..
Сама Настасья Матвеевна внешне хранила спокойствие. Она не сомневалась в том, что нужно сделать. И когда.
Сомневалась только, поможет ли это.
Она не была такой сильной чародейкой, как сестра Стояна-чертячника, но мудрости ее хватало, чтобы предугадывать некоторые события. Их неотвратимость. Их значение.
Поэтому и казалось Юрию Николаевичу, что мама глядит на него необычно.
«Понять бы только, в чем заключается эта необычность!
Господи, что за дурацкое настроение!..» Юрий Николаевич вполуха слушал байки приятеля и смотрел в окно.
По ту сторону стекла бился ночной мотылек, прилетевший на свет лампы. Он раз за разом ударялся о невидимую преграду, роняя с крыльев пушок. Мотылек и не подозревал, что для его же блага лучше оставаться подальше от света…
Юрий Николаевич глядел в окно, а видел «пустоту», о которой упомянул Витюха-Хворостина.