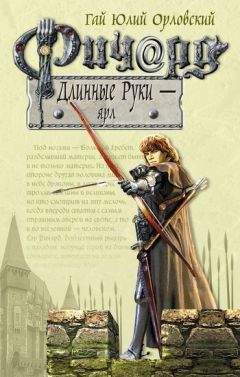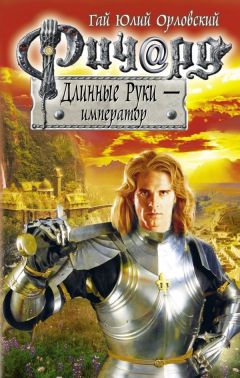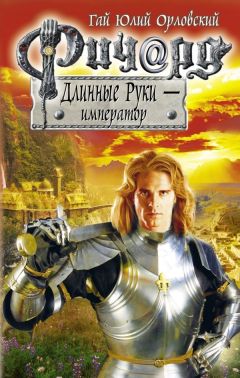Гай Орловский - Ричард Длинные Руки – ярл
Я всматривался в низкие тучи, стараясь увидеть хоть какой-то просвет. Если и за ночь ничего не изменится, все равно с утра выеду. За сутки, как мне объяснили, можно добраться до побережья, там рукой подать до Калева, торгового града, где у причала десятки крупных кораблей и сотни мелких. А по ту сторону моря – Юг, настоящий Юг, имперский, не эти плацдармы, где власть Юга не совсем абсолютная, как было в Кале на территории Франции, что сотню лет являлся землей Англии с ее правами и законами, пока не пришла Жанна д’Арк. Хотя нет, Кале оставался английским и после сожжения Орлеанской Девы…
Блеснул свет, яркий, праздничный, чересчур чистый, даже не свет – а первосвет. Моя тень легла на стену с коврами, я поспешно повернулся к источнику такого огня. Из плазменного шара образовалась человеческая фигура, я видел, с каким усилием преодолевает косную материю, сказал поспешно:
– Тертуллиан, рад тебя видеть!.. Не старайся с деталями, я не суеверен.
Он с трудом формировал лицо, оно то расплывалось, то сжималось в ком, донесся густой голос:
– Сам не думал, что сумею прорваться…
– Решил проверить, – спросил я саркастически, – насколько меня хватило?
Фигура осталась сгустком плазмы, но лицо он восстановил прежнее: квадратное, с мощными надбровными дугами и широкими густыми бровями, огненные глаза, из которых бьет звездный свет, тяжелая челюсть и красиво вырезанные губы, слегка деформированные чужими кулаками.
– Не тебя, – проговорил он зычно, – себя… Хотя, конечно, хотелось проверить, держишься ли еще… Дальше планируешь через океан?
– Да.
Зычный голос, не столько проповедника, сколько военачальника, привыкшего перекрикивать разбушевавшуюся чернь и смирять ее, заполнил все огромное помещение:
– Жаль, туда я не смогу, даже если сохранишь Божью искру… Слишком тяжело было и сюда… Будто через океан застывающей смолы! Видел твой огонек, но едва дотянулся…
Я полюбопытствовал с тем жадным интересом, который вообще-то предпочел бы скрыть:
– Огонек – это моя душа?
Огненное лицо дернулось, Тертуллиан то ли улыбнулся, то ли кивнул, плазменный сгусток на миг вообще превратился в пылающее звездное ядро. Несколько измененный голос прозвучал как будто со всех сторон:
– Очень… приближенно… Да, еще… перестань приписывать мне всякую… да-да, всякую! Я никогда не говорил, что… словом, не говори ту хрень, что ты рассказываешь от моего имени!
Из сгустка правещества, что одновременно энергия, время и все-все, снова проступило мужественное лицо с квадратной челюстью и выступающими надбровными дугами. В глазах плещется звездный прибой, огненные брови грозно сдвинулись на переносице.
– Да? – удивился я. – Но кто-то же такое брякнул? Понимаешь, так удобно прикрыться авторитетом! Я всегда, когда вступаю на тонкий лед, подстилаю придуманные цитаты из классиков.
Он отмахнулся.
– Последнюю глупость в самом деле сказал не то Соломон, не то Моисей, а то и вовсе Иисус. Но и они порой несли чушь. Не надо повторять все, что они говорили, а то прихожане с ума сойдут. Думаешь, когда Иисус помогал отцу-плотнику и попадал молотком по пальцу, он говорил евангельскими текстами?
– Ну, – протянул я, – народ в этом уверен…
– Брось, – сказал он раздраженно, – ты не народ.
– А кто? – спросил я с понятным любопытством, как спрашивают всегда, когда рассчитывают на похвалу или комплимент.
– Ты тот, кому дано больше…
– Договаривай, – посоветовал я польщенно, но и настороженно. – Там сказано, если не ошибаюсь: «…с того и спросится больше».
– Ну… а что тебя так беспокоит?
– Сам знаешь, – ответил я. – Я бы предпочел, чтобы было дано больше, а спрашивалось поменьше! Лично мне и с меня. Остальные двуногие меня не беспокоят.
Огненное лицо искривилось в усмешке.
– Не бреши, беспокоят. Но ты, похоже, главного еще не понял. Не знаю, как в твоих землях, но здесь с тебя никто не спрашивает. Никто! Кроме тебя самого, конечно.
Я сказал почти зло:
– Вот этого я и не люблю!.. Это как с сантехником… ну, вольным горожанином, который помог донести тяжелый мешок, а на вопрос, сколько ему за помощь, отвечает: а сколько дашь!..
Он спросил с интересом:
– Ну так дай самую малость. Или совсем не дай.
– Ну да, – возразил я. – Я ж и сам не хочу себя свиньей чувствовать. Но и переплачивать не хочу. Так что меня не лови на муки совести. Я знаю, что если ей не давать себя грызть, она помрет от голода. У нас вообще свобода совести: хочешь – имей совесть, хочешь – не имей. К тому же мешок денег лучше, чем два мешка совести…
Он слушал, смотрел внимательно. Когда я запнулся, сказал поощряюще:
– Еще, еще…
– Совесть, – огрызнулся я, – это хорошая штука, когда есть у других. Даже самое сильное угрызение совести легко преодолевается самым слабым усилием воли. Совесть – это роскошь, от которой трудно отказаться. Завидую тем, у кого есть на это силы. Чем совесть чище, тем выше ее продажная стоимость. Совесть меня не гложет – я ей не по зубам!
Он кивал, мне показалось, что морда святого становится все довольнее, умолк и спросил с подозрением:
– Что не так?
– А еще можешь?
– Да сколько угодно, – рявкнул я. – Получи: совесть не орган – болеть не может. Лучше убить совесть, чем умереть самому. На свете нет печальней повести, чем жизнь, прожитая по совести… Совесть у нас чиста – мы ею не пользуемся!.. ну что, схавал?
Плазменная фигура заколыхалась, как при звездной буре, лицо двигалось, наконец я увидел огромные огненные глаза, заполненные жаром сверхновых.
– Великолепно! Бесподобно!.. Каких же высот достигли в твоих землях нравственно-этические поиски, что родились такие замечательные перлы приобщения к высшим ценностям христианства… через отрицание!
Я спросил обалдело:
– Э-э… приобщение?.. Через отрицание? Да это просто стеб! Тупой стеб придурков!
– Нет, – возразил он мощно, – равнодушный человек вообще не вспоминает о совести, о нравственности, он просто живет… как животное. А такое яростное отрицание нравственных норм просто кричит, что человек в конфликте с миром, где легче жить без совести, безуспешно пытается сам жить по грязным законам, усердно убеждает себя, что жить без совести нужно, жить без совести проще…
Я раскрыл было рот, чтобы поспорить, это я умею, все мы умеем и любим спорить и опровергать, это не самим что-то творить или создавать, но странное ощущение, будто в безумных словах Тертуллиана есть нечто, хоть и донельзя искаженное, перевернутое, перекрученное, как баба выкручивает мокрую тряпку… заставило остановиться, словно на краю крыши, я вяло буркнул:
– Совесть – это такая вещь, которая приходит без приглашения и уходит, не попрощавшись. Ты мне скажи, я могу тобой как-то попользоваться? А то ты меня в хвост и в гриву, а сам хотя бы дорогу подсказал…