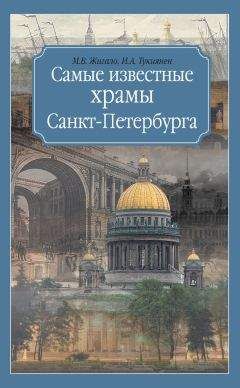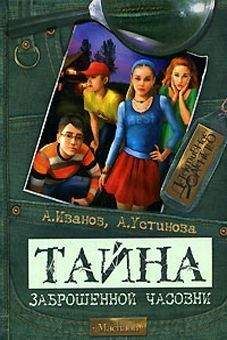Антон Фарб - День Святого Никогда
Феликс попытался представить, и в его воображении тут же возникло нечто совершенно несуразное: подвода с задранными оглоблями, на которой размещался громадный черный котел со свистком наверху. Отогнав прочь химерное видение, Феликс вынужден был признать, что термин «паровой экипаж» означает для него еще меньше, чем «клипер». Философски хмыкнув, он подвинул к себе серебряную рюмку с яйцом и ложечкой расколол скорлупу. Яйцо оказалось переваренным: он просил всмятку, а желток был весь твердый. «Хтон знает что! — рассердился Феликс. — Надо не забыть сделать внушение Тельме!»
— Ага, — глубокомысленно сказал Йозеф, намазывая гренки конфетюром и кося одним глазом на отложенную газету. — Теперь все ясно. Пожары на нефтяных приисках в Аравии! Десятки буровых вышек охвачены пламенем! Подозреваются племена бедуинов… А я-то гадал, отчего в лавках ни керосина, ни парафина?..
Последняя новость окончательно отбила у Феликса всякий аппетит. Слишком свежи еще были воспоминания о его последней командировке — как раз на Аравийский полуостров, на те самые нефтяные разработки, куда повадился озоровать шальной ифрит, которого надлежало отучить от подобных занятий раз и навсегда. Эта, по выражению Сигизмунда, «чистой воды синекура» обернулась для Феликса почти непрерывным трехнедельным дежурством на убийственной жаре, и с тех самых пор одно только слово «нефть» вызывало у него массу неприятных ассоциаций. В его памяти навсегда отпечатался скрип ворота, вращаемого мулами и каторжниками; щелканье бича в руке гнилозубого надсмотрщика; хлюпанье черной маслянистой жидкости в бурдюках на впалых боках верблюдов; раскаленное, как противень, небо; невыносимая вонь от нефти, верблюдов, мулов и каторжников; и, наконец, черный жирный дым, языки пламени будто бы из самого ада, липкая копоть на лице и визгливый ор толстомясого караванщика после того, как ифрит все-таки порезвился у самой скважины, где и встретил свою смерть от меча Феликса… «А вот никаких „буровых вышек“ там точно не было», — уверенно подумал Феликс и вдруг осознал, что Йозеф давно ему что-то говорит, а он сидит, тупо уставясь в пространство, и копается в недрах своей памяти…
— Ты что-то сказал, сынок? — виновато переспросил он.
— Да, — терпеливо сказал Йозеф. — Я сказал, что мне все эти симптомы надвигающегося прогресса напоминают эпилептический припадок у коматозного больного. Такое впечатление, что ученые просто не знают, за что им схватиться. Добром это не кончится, помяни мое слово…
— Да-да-да… — рассеяно покивал Феликс, чувствуя, как внутри у него просыпается чувство жгучей досады на самого себя.
Такое с ним случалось все чаще и чаще. Привыкнув считать абсолютно несвойственной ни себе лично, ни героям вообще склонность углубляться в воспоминания, среди которых — увы! — преобладали такие, что у обычного человека отшибло бы не только аппетит, Феликс со стыдом и досадой обнаруживал, что предается этому затягивающему и в чем-то даже приятному занятию чуть ли не каждый день! Он словно искал убежища, уютного и тихого уголка в памяти, где можно было бы укрыться от реальности, закрывшись, как щитом, отголосками пускай и мерзкого в большинстве случаев, но все же неизменного, незыблемого и так хорошо знакомого прошлого…
«Да, — вынужден был признать Феликс, — это правда. Я действительно бегу от реальности. Бегу и прячусь. Но справедливости ради не мешало бы заметить, что реальность отвечает мне тем же…»
И это тоже было правдой. Реальность избрала свой, не менее эффективный способ ускользать от восприятия и обретать эфемерность, присущую скорее мечтам, чем воспоминаниям. С каждым днем реальность становилась все менее и менее осязаемой, порой заставляя Феликса усомниться в твердости собственного рассудка. Иногда ему казалось, что он просто когда-то забыл проснуться, и продолжает видеть сон — расплывчатый, смутный, аморфный и бесконечный. И если Феликс искал убежища от такого псевдо-сна в своем прошлом, то реальность скрывалась от Феликса при помощи будущего. Последнее, влекомое многоголовым чудовищем по имени Прогресс, занималось, с точки зрения Феликса, исключительно нагромождением друг на друга пустых и ничего не значащих слов.
Слушая, как Йозеф читает газету, Феликс испытывал нечто сродни тому обиженному разочарованию, которое посетило его в самом начале его карьеры, когда свое первое жалование он получил не полновесными золотыми цехинами, а новенькими, хрустящими, красочными — но насквозь бумажными ассигнациями. Но на них, по крайней мере, была проставлена и заверена подписью казначея сумма соответствующих каждой купюре звонких монет — в то время, как за словами «клипер», «паровой экипаж» и «буровая вышка» (и множеством других) не стояло ровным счетом ничего. Теперь Феликс гораздо лучше понимал Агнешку, которая, спустись она к завтраку, непременно стала бы изводить дедушку назойливыми вопросами о том, что такое саратан, сколько щупалец у кракена и каких размеров бывают левиафаны…
Оказывается, это очень страшно — когда слова перестают соотноситься с предметами…
— Доброе утро… — Голос у Ильзы был слегка подсевший, а под глазами набрякли мешки. — Приятного аппетита, — пожелала она с таким видом, что сразу становилось ясно: сама она уже давно забыла, что такое аппетит.
Она вошла в столовую в одном халатике поверх ночнушки и старых шлепанцах; растрепанные волосы в полном беспорядке падали на плечи. Всего полгода назад подобное пренебрежение к собственной внешности было бы немыслимо по отношению ко всегда подтянутой и вечно элегантной Ильзе…
Йозеф вскочил и отодвинул для жены стул.
— Спасибо, — слабым голосом сказала она, присаживаясь и слегка театральным жестом прикладывая ко лбу тыльную сторону запястья.
— Опять? — сочувственно спросил Феликс.
— Ах… — вздохнула Ильза и прикрыла глаза.
Очередная бессонная ночь у кровати дочки далась ей тяжелее обычного.
— Надо было меня разбудить, — сказал Феликс.
— Ах, право, Феликс… Оставьте…
— И ничего не «оставьте». Я старик, мне много спать вредно. Так почему бы мне не посидеть с внучкой?
— Феликс… Она моя дочь. Ну как я могу спать, когда у нее приступ? — с нотками надвигающейся истерики вопросила Ильза.
Тельма, прекрасно знакомая с манерой хозяйки нервничать по утрам, разрядила обстановку, подав ей завтрак: чашку горячего шоколада и стакан с водой. Ильза горестно вздохнула, и отложила монолог мученицы на потом.
Чтобы не раздражать жену, Йозеф свернул газету и продолжил завтрак в гробовом молчании, лишь однажды попытавшись робко заметить:
— Ты знаешь, папа, в той частной клинике…