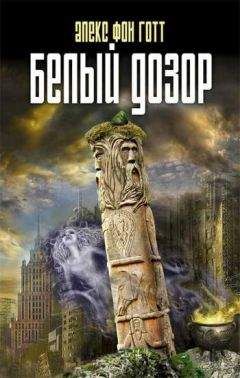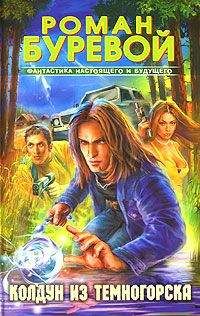Алекс Готт - Белый Дозор
Прошло несколько минут. Глинкин пошевелился, очнулся, опираясь на ствол дерева, тяжело встал. Постоял немного так, словно прислушиваясь к самому себе. Ничего особенного не почувствовал и с облегчением перевел дух:
— Ну надо же… Привидится такая чертовщина. Точно, это мне что-то подсыпали, надо будет расследовать как можно тщательней. Не сумасшедший же я, в самом деле? — вслух произнес Глинкин и тут же в ужасе заорал от того, что в голове у него раздался знакомый голос Невзора:
— Раз сам с собою говоришь, значит, уже малость ненормальный. Ничего тебе не привиделось. И мне отвечать вслух не надо. Просто подумай. Ты научишься. А то от тебя все шарахаться начнут.
Глинкин с обреченным видом кивнул. Затем аккуратно, точно величайшую святыню, взял прислоненный к дубу посох Невзора и, держа его на плече, словно коромысло, зашагал к дому…
3Квак ехал к Глинкину. Вообще-то, это была незапланированная встреча, и Квак немного встревожился. Даже не столько от предстоящего пересечения со своим нанимателем, сколько от телефонного звонка, предварившего его поездку к Глинкину. Такого голоса у него Квак никогда не слышал. Магнат говорил тускло и безжизненно, словно разом утратил ко всему на свете всякий интерес. Не выделяя предложений, не применяя интонаций, он заявил, что настаивает на немедленной встрече, и в ответ на встревоженное Кваково: «А что случилось? Что-то случилось?» так же тускло ответил, что он не намерен обсуждать по телефону какие-либо вопросы.
— Я вас жду на третьей палубе, — заявил Глинкин и повесил трубку.
«Третьей палубой» они условились называть то самое имение с дубовой аллеей. И Квак, которому пришлось отпрашиваться у Спивакова, выдумав какую-то причину, сел в автомобиль и поехал, по дороге прокручивая в голове варианты того, что могло случиться, один хуже другого. Ничего конкретного ему в голову так и не пришло, но нервы себе Квак сильно намотал на кулак, поэтому к концу поездки был в прескверном расположении духа.
Он оставил машину за километр от нужного ему места, в лесу. Квак всё время соблюдал некую конспирацию, предварительно перед каждой встречей петляя по городу, и никогда «не светил» свою машину возле глинкинских ворот, до которых он дошел, озираясь по сторонам, по узкой лесной тропе. После некоторых формальностей в виде установления личности и личного досмотра Квак был допущен в святая святых — кабинет барина.
Огромный дом Глинкина был точной копией Константиновского дворца в Стрельне под Петербургом. Личные апартаменты хозяина насчитывали девять комнат, вход в них был разрешен людям, количество которых умещалось на пальцах одной руки. Квак в их число не входил, но ради него было сделано исключение. Раньше Глинкин любил много естественного света, и окна в его кабинете были от пола до потолка. Света даже в пасмурный день было столько, что виден был каждый уголок этого обширного, больше напоминавшего тронный зал помещения. Теперь же, после встречи с Невзором, который свет, по понятной причине, не сильно жаловал, тяжелые портьеры были опущены, в кабинете царил почти полный мрак, который нарушала лишь небольшая настольная лампа с очень уютным, зеленым абажуром. За столом молча и прямо сидел фармацевтический магнат с закрытыми глазами, и со стороны казалось, что он спит, но Глинкин беседовал с поселившейся в нем сущностью, отвечал на вопросы колдуна, который задавал их постоянно, а не получая ответа, приходил в ярость и заставлял Глинкина умолять:
— Невзор, прошу вас, успокойтесь. Я не могу знать всё и обо всем. Дайте мне время, я постараюсь найти исчерпывающий ответ на ваш вопрос.
— У меня нет времени, — слышал он в себе ворчание Невзора, — так что быстро отвечай, из чего сейчас пекут хлеб. В точности скажи, это очень мне важно.
— Но зачем вам! — не выдержал Глинкин и чуть не выпалил свой вопрос вслух.
— А как же я буду им посевы портить, коли они, может, вместо пшеницы сажают неизвестно что? Кто вас знает, нынешних человеков? Странные вы. Всё больше такое жрете, что в рот-то не лезет, до того оно противно выглядит.
— Не извольте беспокоиться, хлеб из муки, а мука точно из пшеницы, — устало отвечал измученный сидящим в нем духом магнат.
— Ну то-то…
Квак покашлял в кулак, Глинкин вздрогнул и открыл глаза. Квак в ужасе отшатнулся, до того страшно ему стало при виде этих глаз: ярко-зеленых, будто бы состоящих только из зрачков, похожих на две нездешние звезды.
— Что с тобой? — прошептал Квак.
— Со мной всё нормально, — равнодушно ответил Глинкин, — просто немного устал. У меня эта… светобоязнь открылась, или что там? — я забыл, как это правильно называется. Редкая болезнь. Была только у Ханны Лоры Колль, супруги толстого немецкого канцлера, симпатизировавшего Гитлеру. Под конец она совершенно помешалась. И будь любезен снова обращаться ко мне на «вы», как и подобает слуге обращаться к хозяину.
— Но, у вас такой странный взгляд, — несмело пробормотал Квак и, набравшись мужества, заставил себя присесть на краешек стула.
— Это к нашему делу отношения не имеет. Я тебя за другим звал.
Квак сглотнул комок трусости, скопившийся в горле.
— Слушаю вас.
— Сколько доз препарата существует в готовом виде?
Глинкин отбивал пальцами чечетку по столешнице, и к Кваку вернулся его прежний ужас, когда он увидел, что ногти у Глинкина из прежних ухоженных, покрытых бесцветным лаком, отросли на несколько сантиметров, сделались желтыми и очень острыми. На столешнице красного дерева от легкого прикосновения этих ногтей оставались глубокие следы.
— Около двухсот доз, — ответил Квак и тут же подпрыгнул, потому что Глинкин жутким, совершенно не своим голосом гаркнул:
— А точней?! Меня не устраивает это твое «около»! Я тебе плачу не за «около», а за точную информацию! Потрудись мне отвечать, как положено!
— Ровно двести доз, — испуганно затараторил Квак, — в ампулах по два кубика. Хранятся в цокольном этаже, там, в криохранилище.
— Какая там охрана?
— Один милиционер.
— Вооружен?
— Кажется, д-да.
— Тебя в лицо знает? Требует предъявить пропуск?
— Михаил Петрович, если вы хотите, чтобы я что-то такое сделал, то я вас умоляю, я… — Квак молитвенно сложил руки: ладонь к ладони, как будто собирался прочитать Pater Noster, но договорить не смог.
— Молча-а-а-ть! — яростно завопил Глинкин и неожиданно оттолкнулся руками от края стола, буквально вылетел из кресла, описал в воздухе красивую дугу и медленно (!) приземлился на тот же стол на полусогнутых ногах, сел на корточки, вытянул вперед руки, будто орангутанг, высунул язык, длинный, словно у собаки. Это было настолько противоестественно, настолько противоречило всем законам физики и вообще здравого смысла, что Квак воистину открыл рот. А между тем магнат времени понапрасну не терял, протянул к нему руку, и хотя между ними было около двух метров, рука начала с противным треском удлиняться, словно в ней ломали кость. Квак сделал попытку убежать, но ужас сжал его сердце холодными пальцами, ужас налил свинца в его ноги, резанул по пояснице параличом, и он остался стоять, где стоял, а рука: отвратительная, волосатая, в кожных розоватых растяжках, схватила его за ворот рубашки, сгребла и потащила к себе.