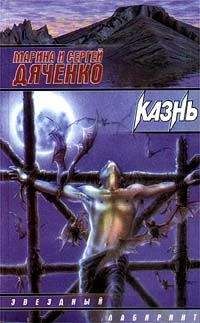Игорь Федорцов - Камень, брошенный богом
— Значит ты жил под крылышком у Ксавьеры? — не с добром спросила она, заранее представляя будущий ответ.
Тупик стопроцентный. Не мог же я ей объяснить, что имел в виду европейскую писательницу, посвятившую простыни страниц и море чернил описаниям "где лизать и что сосать".
— Покуда я, сбившись с ног, искала тебя, ты проводил время в кровати отставной императорской шлюхи? — настаивала услышать ожидаемое Бона. Видно её лишний раз хотелось убедиться, какая Гонзаго скотина, и заодно приобрести дополнительную возможность давления на слабохарактерного блудливого кабальеро.
— Не только, — вяло отмахнулся я от расспросов. Ответ прозвучал двусмысленно. Толи занимался еще чем-то кроме как трахал Ксавьеру, толи делил ложе не с ней одной.
— И медальон оставил ей? — высказала подозрения Бона, не уловив много чтения моих слов.
— Не исключено, — коротко ответствовал я. На длинные тирады у меня не хватало здоровья.
— И что же тебя подвигло навестить проворовавшуюся потаскуху, которую ты видел только один раз?
На этот раз я промолчал. Голова трещала, словно в ней проходил чемпионат по кегельбану, в ум лезла какая-то похабень, а от запаха духов мутило в позывах поблевать.
— Лех! — призвала меня Бона. Молчанка её не устраивала. Сеньоре хотелось натыкать Гонзаго носом в собственную ничтожность как напакостившего котенка в говно.
Не жизнь, а сказка про "Огниво"! Три хорошеньких собачки: Душегуб, Людоед и Лех! — невесело подумал я, сочувствуя Гонзаго. В слух же отозвался:
— Весь к твоим услугам, дорогая.
— Я жду, когда ты мне ответишь
— Все что пожелаешь, — вызвался я и замолк.
— Лех!
— Я слушаю, слушаю тебя, — отозвался я. Знала бы ведьма, чего мне стоило поддерживать разговор!
Женщины порой бывают прозорливы. Поняв бесперспективность дальнейших расспросов, Бона замолчала. Я же восприняв молчание как дар небес, уставился в окно созерцать нивы и холмы вольного Близзена.
В пути мы промаялись еще два дня. Мелькнувший придорожный столб, украшенный гонзаговским гербом, подсказал — подъезжаем. Откуда узнал герб? На двери кареты красовался такой же — под золотой короной на краповом поле серебряный меч увитый черными розами и поливаемый дождем голубых слез.
И как приятно возвращаться под крышу дома своего*, — поздравляюще пропел я. Приятного, правда, не больше чем в положительной реакции Вессермана.
10
Из-за холмов на встречу всплывало каменное чудище замка Эль Гураб. Мощь высоченных угловых и привратных башен, тяжелая толщь непоколебимых стен, хищный разрез бойниц, оскал стальной решетки ворот над языком подъемного моста — все из времени начальных смут и битв, из эпох кровавого железа и дикости нравов.
Пленник замка Иф, — пожалел я себя, отсчитывая мгновения, когда карета въедет в черный зев замковых ворот. — Отсюда сбежать… — заканчивать мысль не стал. Больно безнадежна.
Протяжно, как от зубной боли, заныл горн. Наверх флагштока взмыл приспущенный фамильный штандарт. На стенах замелькали воинские кирасы. Приветственно ударила густая барабанная дробь. Колеса прогрохотали по дереву моста, и карета нырнула во мрак въездного туннеля. Пока ехали, насчитал пять промежуточных решеток. В Лефортовском изоляторе запоров и то меньше, а там сидят рыбины не чета мне.
Выбрались на свет, на небольшую площадь, означенную, слева — торговым рядом, справа — часовней с портиком, прямо — солидной парковой оградой. Насколько замок был пугающе грозен наружи, настолько замечательно прекрасен внутри. Пространство, воздушность, ажурность. Повсюду белые, розовые, синие и коричневые цвета. Особенно мне понравилась часовня, выглядевшая маленьким чудом. Я невольно склонил голову, в знак признательности создавшему её зодчему.
— Какая набожность, — язвительно фыркнула Бона.
Я перетерпел неуважительность и промолчал.
Не сворачивая, въехали в узкие воротца, оставив, сопровождавших рейтар у входа.
Не дурно я живу, — отбросив страхи, восхищался я аллеями похожего на лес парка, аккуратной пышностью цветников, игрушечно-хрупкими ротондами, загадочными павильонами и иными барскими причудами, что не давали отвести глаз.
Объехав вокруг фонтана, в струях которого схватились обнаженные бронзовые атлеты, карета остановилась у широкой лестницы. Две гранитных химеры, вытянув клыкастые морды, стерегли подступы к обиталищу семейства Гонзаго.
Не дожидаясь грума, я приоткрыл дверь, желая скорее покинуть опостылевший тарантас, а заодно и некомпанейскую графскую пассию, опробовавшую на мне все способы зубоскальства. Выйти оказалось не так просто. Лай Людоеда вернул меня на место.
— Убери своих живоглотов, — взмолился я.
— Ты просишь? — зло обрадовалась Бона довольная ущемить меня еще разик.
— Целую ваши ноги от колен и до пупка, — заверил я её.
Запоздавший грум, черный от пыли и солнца, снова открыл заветную дверь. Бона первой вышла из кареты.
— Жано, отведи собак на псарню, — распорядилась она.
Подождав, пока наденут поводки на псов и оттащат их на безопасное расстояние, я вывалился на свет божий, проветрить сопревший от сидения зад.
Бона любезно (вот змеюка!) склонилась передо мной.
— Добро пожаловать домой, граф!
При виде гонзаговских хором, моя челюсть предприняла попытку отвиснуть до колен. В организме сразу стало сухо — от глотки до двенадцатиперстной кишки. Сердце подленько задергалось: Мое! Мое! Мое! И не желало ничего слушать. Действительно было от чего впасть в ступор. Красавец-дом светился белизной величественного мрамора. Причем белизна не являлась абсолютной, а несла едва уловимый оттенок. На уровне первого этажа — изумрудный, гармонирующий с зеленью вьющегося по стенам и колоннам плюща. Карнизы, пилястры узорочье и балконы — розовый, с наложением желтого, солнечного. Второй этаж — голубоватый, в тон огромных окон, разделенных друг от друга нишами с бюстами пращуров-воителей. На крыше — башенки, мансарды, смотровые площадки с цветами и каменным зверьем.
Покуда я любовался чужой недвижимостью, еще минуту назад пустая лестница преобразилась. Вдоль неё, подобно живым перилам выстроился легион слуг и служанок. Встречать возвращение кормильца и благодетеля вышли все от мала до велика.
— Ваши холопы рады видеть вас в полном здравии, граф! — прокомментировала выход массовки Бона. — Поспешите же обнять родных!
Ей едва хватило самообладания не расхохотаться.
Делать нечего, осторожно взошел на первую ступеньку. Слуги бегущей волной согнулись в низком поклоне. Подгоняемый брезгливостью, я стремительно зашагал вверх, едва сдерживаясь не запрыгать через ступеньки. Где то на первой трети я вспомнил о Маршалси и барде. Чуть приостановился оглянуться назад. Слуга, стоявший пообок, в ужасе рухнул на колени, лепеча невнятное: