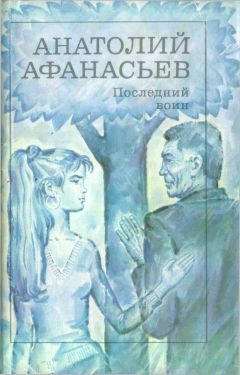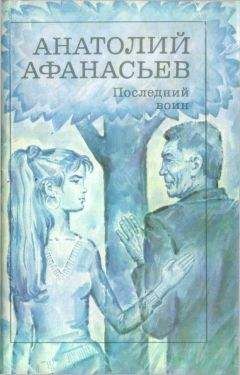Олег Верещагин - Последний воин
К новым клиентам тут же подскочил проворный молодой парень, обряженный «под рыбака». Гарав всем своим видом дал понять, что полагается на друга и, пока Фередир делал заказ, продолжал осматриваться. Больше картин его поразила люстра, свисавшая с потолка, — она была сделана, при точном рассмотрении, из коричневого панцыря черепахи… но панцырь был размером с комнату!!! Висело это чудо природы на толстенных стальных цепях с блоками — чтобы поднимать-опускать. Хотя… природы ли?
— Э, — Гарав толкнул локтем Фередира, — эта штука сборная, наверное? Из кусков?
— Тишшш… — Фередир огляделся. — Ты что, сам хочешь стать сборным из кусков?! Тут тебе и меч не поможет, если кто из завсегдатаев услышит, что ты обозвал панцырь фаститокалона[32] «штукой»!
— Так он что, настоящий? — продолжал добиваться Гарав, косясь вверх.
— Совершенно, — подтвердил Фередир. — В южных морях водится такая черепаха — фаститокалон. Этого каким-то чудом прикончил… а может, дохлым нашёл, — Фередир хихикнул, — тот, кто таверну построил больше века назад. Вон он.
Гарав проследил направление пальца друга. На очередной картине геройский моряк с развевающейся бородой и свирепо-вдохновенным лицом с борта утлого судёнышка «мочил» гарпуном огромную, но жалкую и испуганную черепаху.
— Надо было назвать заведение «Фаститокалон», — заявил Гарав.
Фередир вздохнул:
— Ну да. Только это слово половина Юга выговорить не может, а дунландцы вообще считают эльфийским проклятьем. И как в такой таверне… эй-я, несут!
Тот же самый слуга ловко разместил на столе перед друзьями вышитое тонкое полотенце в изогнутой медной подставке; две чаши (посеребрённых, между прочим!); кувшин с вином — уже из чистого серебра; пару двузубых вилок — с костяными резными рукояточками; блюдо с нарезанным белым хлебом — тоже посеребрённое; и — в финале, с явной гордостью — два грубых глиняных сосуда (что-то среднее между «горшком» и «горшочком»), с которых неуловимым жестом снял крышки.
Вверх рванул вкусно пахнущий пар…
…Тунца тут делать умели. Гарав ел его впервые в жизни и решил не признаваться, что это, пожалуй, вкуснее речной рыбы. В винном соусе с зеленью, золотистыми картофельными ломтиками и оливками плотно лежали куски нежнейшей рыбы, вкус которой был восхитителен. Какое-то время мальчишки просто ели, сдержанно посапывая и похлюпывая от удовольствия. Наконец Гарав решил сделать перерыв и, отвалившись от горшка, лениво налил себе розоватого вина и спросил — этот вопрос, кстати, занимал его давно:
— Слушай, Федь… А у вас, видимо, вообще нет бедных людей? Ну таких, чтобы нищенствовали или голодали?
Фередир тоже наполнил свою чашу, пожал плечами:
— Ну как нет… Такого, как в Хараде, где нищие девять из десяти — даже налог на нищих есть, представляешь?! — у нас нет, конечно. В деревнях тоже не голодают, там всегда есть запасы, общие… А вообще бедные есть и у нас. За всеми ведь не уследишь. Городской Совет деньги тратит и на лечение, и на еду, и на жильё — в смысле, тем, кому почему-то не повезло. Но в основном, знаешь, — вдруг сердито сказал Фередир, — те, кто у нас в бедности живёт, они просто или лентяи тёмные, или жулики беспросветные. У нас в соседней деревне был такой. Всё к нам на хутор ходил побираться, рассказывал, что бывший воин… Насобирает по округе всякой всячины, еду продаст, а деньги прогуливает. Отец не верил, когда его об этом предупреждали, говорил, что про такое врать — это вообще вместо совести надо бельмо мёртвое иметь. А потом как-то зашёл в трактир по делу — и видит этого «несчастного», как он доброхотное прогуливает на пиве. Тот аж с лица спал, под стол раком пополз. Отец стол ногой перевернул и говорит: «Был бы ты воин, как говорил, я бы тебя вызвал. А таких, как ты, тараканов, вот так давят!» — и пинками его из трактира… Больше он в наших местах не появлялся вообще… В общем, я так думаю, — подытожил Фередир, — если кто вот так постоянно на бедность жалуется — он или завидует всем, или вовсе чужим карманом прожить хочет. Мужчина работу себе всегда найдёт! Даже безрукий или безногий — найдёт!
— А женщина? — спросил Гарав, следя за оркестром.
Фередир удивился:
— А что женщина? Она при мужчине. Он её защитник и кормилец, она — мать его детей и хозяйка дома. Знаешь, как северяне говорят? «Мужчина не должен спрашивать, как дом поставить, женщина не должна спрашивать, как на стол ставить».
— Просто всё у вас, — пробормотал Гарав, отпивая вина.
Фередир ухмыльнулся:
— У вас иначе?
— Чёрт его знает, — отозвался Гарав по-русски, перекинул ноги через скамью, встал и направился к музыкантам. Через плечо сообщил: — Разобраться бы ещё — где оно, это «у нас»! Ну-ка, дай лютню.
Это он потребовал уже у одного из музыкантов. Тот, неуверенно покосившись на хозяина за стойкой (хозяин наклонил голову), передал инструмент мальчишке. Оруженосец не очень умело пощипал струны, подошёл к краю «сцены» и объявил:
— Всем бардам, менестрелям и просто завсегдатаям этого прекрасного заведения — от оруженосца Гарава. Помидоров я не боюсь, потому что у вас их всё равно нет. — И, ошарашив притихший зал этим странным заявлением, перешёл в песенную атаку:
Выпьем за честь, за свободу, за братство,
Выпьем за то, чтоб добраться домой.
Деньги — вода, а здоровье — богатство,
Вышел из боя — гордись, что живой.
Все, что имеешь, — расходуй на пиво,
Все, что осталось, с утра подсчитай.
Пить с менестрелем, конечно, красиво…
Видишь бутылку — тогда наливай!
Зал уже притопывал и прихлопывал — песня понравилась, голос певца — тоже, а не слишком умелое владение лютней за всем этим не замечалось, слыхали тут и похуже, и ничего, стоит мир…
Это не сказки — проверьте же сами,
Ставьте на стол и еду, и питье.
Ведь менестрель не один, а с друзьями,
Кончится все, он же дальше пойдет.
Но ты не волнуйся — он скоро вернется,
Может, еще принесет что-нибудь.
Если же кто-нибудь сильно напьется,
Лучше его положи отдохнуть.
Но не надейся: когда ты проснешься,
Все, что случилось, расскажут тебе,
Друг-менестрель никогда не напьется
И никого не оставит в беде.
Страшное дело — похмелье, но это
Трудность известная, так что не ной.
Пить с менестрелем — нелегкое дело…
Так что гордись, что остался живой.[33]
Гарав с поклоном передал лютню музыканту и, отвечая на поздравительные реплики то кивком, то взмахом руки, то улыбкой, вернулся на место. Садясь, прошептал Фередиру: