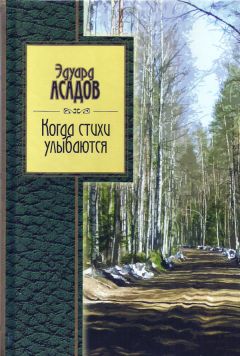Карина Демина - Внучка берендеева. Второй семестр
Он бы рассказал о том тени, только знал — не будет слушать. Да и рассказчик из Емельки не ахти, вон, Егор так ничего и не понял, хотя Емелька и так объяснить силился, и этак. Ерема только вздохнул, а Евсте и вовсе будто бы все равно.
Только Еська сказал:
— Беззлобный ты человек… — и прилип листом банным, приглядывая, значится, как бы кто Емельку не обидел. А кто обидит?
Ровные все.
Так им сказано было, и не кем-нибудь, а царицею. Ее-то Емелька, как увидал, так прям и заробел. Мыслимое ли дело! А уж что ею сказано было… сперва и не поверил.
Разве ж возможно такое?
А она самолично, своею рученькою ножичек малый протянула.
И камень зачарованный.
Вспыхнул тот камень, когда на него капля крови упала. Вспыхнул и погас, и значится, правду сказала, хоть бы правда этая в Емелькиной голове не умещалася. Он-то после седмицу спокойно спать не мог, с боку на бок ворочался, и другим мешал, пока Еська не велел:
— Угомонись. Кровь как кровь. Много тебе от нее пользы было?
Может, и не было вовсе, да… разве ж можно говорить, что обыкновенная она? Это Еська не со зла… вор, человек вовсе безбожный, без почтения, но и он — дитя Божинино, не Емельке судить. А кровь… всяк ведает, что Божиня детей своих равными сотворила, из глины и огня, из ветра и воды. Но не способные они были миром жить, все ругалися, искали, кто правдивей, кто сильней, кто смелей. С того и выходили бойки. И тогда Божиня отыскала дитятко чистое, ликом и духом светлое, да и благословила его своею кровью. С того и выходит, что царь не просто так над иными стоит, он Божинею поставленный порядок блюсть и приличия всяческие, чтоб жили люди в царствие Росском по правде, по уложению. И кажное слово его — слово Божинина.
Воля его…
— Может, так оно и было, — Еська перебрался к Емельке на кровать и обнял. — Давно. Сколько лет прошло? Сотня? Две? Ныне и люди иные, и цари… а кровь… Емелька, просто забудь.
Емелька старался.
Нет, не забыть. О таком забыть неможно. Но раз уж выпало так, что и он, холоп дурной, благословение Божини обрел, то значится достойным оного быть должен. Учиться? Учился. Из шкуры лез, хотя ж ему учеба тяжко давалася. Он и грамоты не разумел сперва. И учителя вздыхали, кривилися. Им-то Егор с Евстей милей, которые кажное слово на лету хватают да еще и вопросы хитровымдренные задают. Мол, отчего все так, а не этак… Еська помалкивает, да и он учен… прочие… изо всех только Емелька — чурбан строеросовый.
И голова дубовая.
Не лезла в нее наука. Еська помогал. И так старался, и этак, а все одно не лезла… Егор только посмеивался: дескать, куда холопу с боярами равняться? Правда, потом его побили. И не один раз били, больно заносчив был… но кому с того легче?
После уж, как с грамотою справился, и легче стало. Книги читать стал. Они, что дедовы рассказы, удивительны. В каждой своя гиштория, иные скучны, навроде нынешних, про магию да чертежи, иные — про дни минулые — интересны, но главное, что книг этих в библиотеке Акадэмии превеликое множество.
Надолго хватит.
…еще б со страхом своим справиться. И с тенью этою…
— Уходи, — попросил Емелька. Он-то драться был непривычен, неудобственно было живого человека бить, однако ж тень, ежель подумать, не человек вовсе. И пришла с дурным.
На братьев клевету принесла.
На матушку.
— Я уйду, не бойся…
— Я не боюсь, — ответил Емелька, кулаки сжимая.
Он и вправду не боится, не тени… только и она Емельки не испужается.
— Знаешь ли ты, что после пожару сестрица отчима твоего на месте дома сгоревшего иной поставила? Не дом — терем целый…
Божиня ей судья.
И сестрица ейная, чье имя Емелька и в мыслях произносить стерегся.
— И две лавки, помимо братовой, открыла… откудова деньги?
Емелька плечами пожал.
Нашла, небось, кубышку братову. Он-то купцом удачливым был, будто и вправду Божиня за доброту его к матери Емелькиной отплатила. До свадьбы-то, сказывали, перебивался худо-бедно, как иные, а после прикупил за сущие гроши груз у одного иноземца, а там и шелка всякие, и атласы, и бархаты, и многое иное, что с выгодою продал. Так и пошло у него, золото к золоту…
А тратить не тратил.
Копил для деток.
И разве худо?
— Тяжко с тобой… мести ты не ищешь?
— Не ищу, — ответил Емелька. Может, оно и неправильно. Егор вон спит и видит, как бы отыскать душегуба, который матушку егоную со свету сжил. И Емельке бы надобно… все ж таки мать… и братья… малых жаль премного, за них Емелька Божине молится, хотя ж она и без молитвы деток не забидит. Но все ж… а вот мстить…
Кому?
И разве ж с того легче станет?
— И власти не жаждешь…
Емелька руками развел: и вправду, не жаждет. На кой ему власть-то? Его, вона, учили-учили приказы отдавать, чтоб с гонором должным, по-боярску, а он все никак. Хуже, чем с грамотою. Сам-то холопом был, чай, помнит, каково это. И неудобственно перед людями, страсть.
— Богатство, как понимаю, тоже не нужно?
Только и сумел Емелька, что вздохнуть: богатство… оно, может, и хорошо, когда человек и дом имеет, и землицы, и кубышку на черный день, а то и не одну. Да не в золоте счастие.
Не помогло оно хозяину.
И матушку не спасло, хотя ж ее, единственную, хозяин берег и баловал, на каждый пальчик по перстенечку, на шею — ожерелиев с каменьями, и запястья узорчатые, и заушницы золотые… где все? Сгорело? Продала Матрена Войтятовна?
Куда б не ушло, да с собою не забрали.
Емельке-то золото без нужды. Куда его девать?
Тень засмеялась.
— Выходит, сам не знаешь, чего тебе от жизни надобно…
Отчего ж не знает? Знает.
Жить.
Может, свезет и станет Емелька магиком. Потом, когда все закончится. И при Акадэмии позволят остаться, при библиотеке тутошней, в которой книг — превеликое множество. А нет, то…
…он бы по миру поездил, поглядел. Добрался бы до Северного моря, про которое дед сказывал, что морозы там до того лютые — птица на лету замерзает. И что небо порой вспыхивает нездешним пламенем, и местные люди думают, что то Хозяйка ветров двери своего дома открывает…
…или к саксонцам съездил бы, глянул на города ихние, из камня сложенные… иль на южные земли, где море черное, что деготь, и люди такие ж живут. Младенчик как на свет родится, так его в том море и купают, вот он и становится черен от воды, только глазья белые. И зубы.
Зубы-то понятно — откудова они у младенчиков? А почему глазья не чернеют, Емелька до сих пор не разумел. Но, глядишь, доберется и самолично глянет.
Может, заклеивают чем?
— Хочешь, страх твой заберу? — предложила тень, которая глядела насмешливо. Вот хоть не видел Емелька лика ее, а шкурой своей чуял — веселится. И веселье то дурное, что Егорово тогдашнее, за которое тот и битым бывал.