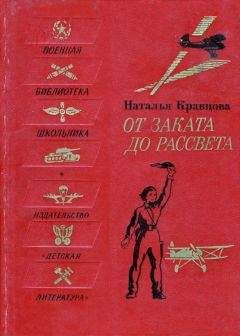От заката до рассвета (СИ) - Артемов Александр Александрович
Юноша еле заметно кивнул. Глаза его были закрыты — казалось, он был очень далеко.
— Это хорошо, что любишь. Плакать по тебе будет, — сказала Малунья, пряча бутылочку в сапоге. — Как зовут бедняжку?
Она приложила ухо к бескровным губам — те произнесли какое-то короткое имя и застыли.
— Хорошо, — кивнула ведьмочка и уселась на корточки перед дрожащим телом. — А теперь послужи мне. В последний раз.
И вновь она сунула обе кисти в распоротый живот юноши. На этот раз тот уже не стонал, не кричал и вообще не двинул ни единым мускулом. Лишь голова упала на плечо, когда ведьмочка принялась с жадностью выгребать из живота внутренности, а потом намазываться горячей кровью.
При виде такого изуверства Игриш хотел повернуть Красотку и гнать ее куда угодно, лишь бы оказаться подальше отсюда. Но лошадь словно приросла к месту, спокойно щипала травку и не реагировала ни на какие попытки мальчика сдвинуть ее.
Ведьмочка была почти полностью вымазана в крови — лицо, шея, груди, теперь она методично и щедро покрывала ею свои сверкающие бедра и ноги. Последним местом, куда девица сунула окровавленную ладонь, оказалась промежность — она орудовала дольше прочих, почему-то мерзко хихикая.
Когда Малунья закончила свое мерзкое занятие, она повернулась к Игришу, сверкая счастливыми глазами.
— Гриш! — позвала она мальчика и подбежала к нему. — Гриш, ну что же ты?! Ведь он остывает, быстрее!
Тот был не в силах ответить ей, не мог даже закричать, когда Малунья схватила его за руки и попыталась стащить с лошади. Сначала мягко, а потом все настойчивей.
— Ты же будущий ведьмак! — кричала она, дергая его за одежду. — Ну, Гриш, что за вид? Раздевайся!
Он подался назад, вырываясь из ее рук, и с каким-то обиженным стоном скатился с лошади. По счастью ничего себе не сломав, он приземлился на четвереньки, вскочил и побежал от нее сломя голову.
Со спины, точно от боли, взвился ветер и заметался у мальчика в ногах, словно даже стихия пыталась задержать и свалить его с ног. Вне себя от отвращения Игриш мчался сквозь ночной лес, спотыкаясь о корни и раздирая себе руки о ветки. Не знал, куда направляется, но просто бежал. Просто бежал, не оглядываясь.
Остановился он только тогда, когда сердце уже, казалось, готово было выскочить из груди.
— И зачем было так мчаться, ты чего полоумный? — донесся сзади голос ведьмочки, и Игриш вздрогнул. Следом фыркнула лошадь, и мальчик обернулся…
Она по-прежнему стояла рядом, сложив окровавленные руки на темно-алой груди, и недовольно топала сапожком. Красотка мирно щипала травку, а труп с вываленными кишками сидел на своем прежнем месте, словно тоже ждал мальчика.
— Я не хочу… — простонал Игриш, и его скрутило очередной тошнотворной удавкой. Он повернулся в попытке снова броситься бежать, но ведьмочка крепко ухватила его за руку.
— Понимаю, — сказала она ему в ухо. — Я помогу.
— Нет!
— Потом спасибо скажешь, глупыш, — закусила она шаловливую губку и напрыгнула на Игриша.
* * *
— Помер? Как помер? — голосил пан Кречет на весь двор, засыпанный пеплом. Перед ним с понуро опущенной головой стоял Ранко и ковырялся кинжалом в ногтях.
— Ну, ты же сам приказал — привяжи, мол, этого поганца к лошади и тащи к шинке…
— И ты привязал?
— Ага.
— К спине лошади?
— Нет. К хвосту.
— Да как ты, еб… твою мать, решил довести его до шинки живым, раз привязал его к хвосту лошади?
— Ну… никак. Ты ж не говорил мне, мол, Ранко этого паскудника шоб живым до шинки довез. Я-то думал, ты его мне поиграца маленько оставил. А он, знай, так смешно дергался и попискивал, когда я его по лесу возил — дай, думаю, повожу подольше… Ну, дядька!
— Я тебе дам дядьку, ушлепыш!
Пожар не унимался до самого утра. Крыша шинки провалилась внутрь уже под утро; когда рассвело, стены прогорели практически полностью, и скособоченное строение вскоре ухнуло на бок, похоронив под собой все наследие безутешной бабки Малашки.
Сама шинкарка все это время сидела перед пожарищем верхом на своей знаменитой притолоке — единственном, что пережило пожар — обнималась с девками-подавальщицами и выла на разные голоса. Кречет несколько раз пытался увести баб подальше, но те голосили только громче — так что Кречет вскоре махнул на них рукой.
У казаков были дела поважнее, чем успокаивать несчастную бабенку, у которой наверняка где-нибудь припрятан клад, — как рассуждал пан Повлюк, памятуя страшную скупость шинкарской ведьмы, как в народе прозвали бабку Малашку. Вся ватага расселась на дровнях, а то и прямо на земле полукругом лицом к пожарищу, и сладко раскуривая люльки, предаваясь воспоминаниям о прежних временах, когда стены шинки еще крепко стояли на своем месте.
— Жалеешь ее, пан Каурай? — хмыкали казаки, пуская дымные колечки в небо. — Напрасно! Это ее сам Спаситель покарал, и справедливо.
— Факт! — кивал на их умозаключения пан Повлюк, который не шибко любил рассказывать, но очень по нраву ему было послушать как говорят другие.
— А то! — продолжал оратор. — Покарал за скверный характер, редкостную скупость и за то, что своего мужа, старого шинкаря — пана Бобрюка, в могилу свела. Казаки гутарют, что по молодости любила она среди ночи на спину мужу вскочить, мол, «Катай меня!», а он, дурак, и не дурак покатать на себе любимую жинку. Да так ее до самого рассвета на спине и катает, пока силы у него есть, а на рассвете бахнется без сил на кровать — она снова на него заберется и давай кровь из него сосать. А он поутру из дому выйдет, мертвец мертвецом, так исхудал после женитьбы! Вон она за несколько лет из него душу и вытрясла, захирел совсем, обабился и засох, бедолага. Говорят в спичечном коробке его похоронили, но это, видать, брешут, дурачье.
Каурай не перебивал оратора, только кивал да хмыкал на самых удивительных моментах, что распаляло казака еще больше.
— А хорошо ты, пан Чубец, рассказываешь, — аж прикрыл от наслаждения глаза Повлюк. — Положительно хорошо!
— Раньше как было? — продолжали вспоминать былое казаки, попыхивая люльками и наблюдая как догорает их любимая шинка. — Горилка аж пенилась в чарке, когда ее пригубишь, словно тебя обухом по голове ударили — так она тебя за шкирку брала. Я Борбюка все спрашивал: откуда ты, пан, такую славную горилку берешь? А он, стервец, только усы подкручивает да посмеивается, но тайны своей не выдает. А еще у него табак был! Добрый табак, славный табак! А нынче что? И курица не чихнет! Эх, накрылось все медным тазом, как шинку прибрала к рукам женушка Бобрюка, не успел сам пан Бобрюк в мир иной отойти. Ни тебе табака, ни сала, галушки — одно название, ни горилки приличной! — все она ее разбавляла, чтобы травить народ, старая ведьма, да и в долг перестала наливать, представляешь? Бобрюк он тебя помурижит-помурижит, да и забудет, так как человек был хороший. А эта? Все казаки в округе от ейной скупости страдали. Скверная баба одним словом, скверная!
Пока престарелые пановья припоминали Малашке все ее грехи, молодые казаки искали тела товарищей и считали разбойников. Сами они потеряли десять человек убитыми и еще столько же получили ранения. Убитых разбойников насчитали пару десятков, и это только тех, кого нашли; сколько из них было раненых, сказать было сложно, так как многих при отступлении добивали свои же или с ними расправлялись казаки Кречета во время ожесточенных стычек.
Этим временем сам голова расхаживал среди мертвецов, уперев руки в бока, и силился отыскать безрукого хозяина сабли, которую подобрал Каурай. Однако среди павших таковой его взгляду не попадался. Зато, как он выразился, «всякой вороватой сволочи в изгвазданных обносках» было хоть ложкой черпай. Многие лица он узнавал и со злостью плевал им на рассеченные лбы.
— Так, — чесал он затылок, сбив шапку на лоб. — Обладателя того панского инструмента словно ветром унесло, а единственных пленных мы прое…ли. Прелестно! Благодарствую тебе, Ранко, ото всей души благодарствую, что так внимательно ты слушаешь старших!