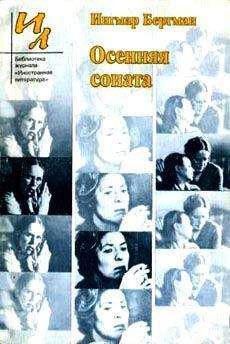Лев Вершинин - Возвращение короля
Но и страх показывать нельзя. Эти уважают храбрость. Поэтому, когда один из пришельцев, тот, что в господском, отряхивая с липких волос капли, шагнул к двери, Тоббо не поднял оружия. Но и не посторонился. Встал попрочнее, широко расставив ноги и прикрыв вход в жилище, как и надлежит мужчине, даже если мужчина по рождению виллан.
Степной приблизился. Действительно, вожак: одежда новая, не грабленая, покупная. Очень хорошая одежда, не на всяком сеньоре увидишь такую. Темная холеная бородка и мясистые губы. Глаз не различить. Темно.
— Не суетись, Тоббо, — послышался спокойный голос. — И не бойся. Мы хотим переждать ночь.
— Ты кто? Стой, где стоишь!
— Тоббо, я же сказал: не суетись.
— Ты кто?
Четверо, одетые попроще, отошли от колодца и, приблизившись, сгрудились за спиной чернобородого. Ни один не обнажил оружия, на лицах — спокойствие. Бледнел закат, где-то вдали, совсем тонко, рванулся к звездам вой и, оборвавшись, завелся снова, но уже оттуда, где густилась ночная мгла. Под навесом беспокойно всхрапнули кони.
— Я — Вудри Степняк. Не слыхал?
Тоббо молчал. Как не слыхать? Если парень не врет, надо бы спрятать меч и не мелькать. Этот шутить не станет. Может, и впрямь только ночь пересидят? А ежели врет?
— Я Вудри сам не видал. Но, говорят, его колесовали.
— Обошлось, как видишь.
— Они не могли отпустить тебя, если ты — Вудри.
— Слушай, Тоббо, хватит. Нам нужно переждать ночь. И мы поедем дальше. Уйди с порога.
Тоббо упрямо покачал головой.
— Я буду драться. Там семья.
— Дурак. Кому нужна твоя старуха? — губастый коротко кивнул за спину.
— Эти парни привыкли к свеженькому. Да ты что, не знаешь, кто такой Вудри?
— Знаю…
Тоббо опустил меч в опоясанный кожей чехол и шагнул в сторону, пропуская степных.
Почистить копыта единорогу — работа нелегкая. А если торопишься, особенно. Когда Тоббо вернулся из бычьего загона, в хижине было дымно и беспорядочно. Пятеро развалились вольготно, сдвинув к столу оба табурета и суковатые чурбаны, завезенные давеча из деревни для растопки. Куртки комком валялись в углу, чадил светильник, моргая подслеповатым огоньком, потные лица и литые плечи под медленно высыхающими рубахами сдвинулись над столом. На неоструганной доске лежало мясо, уж, конечно, не с собой привезенное, и хлеб — господский, белый, хотя и тронутый плесенью, а еще покачивался высокий кувшин с резко пахнущим напитком. Вот это точно привезли с собой; у вилланов огнянки не водится. Не по карману, да и запрещено. Мешает трудиться. Тоббо беспокойно покосился на шторку, но там было тихо. Жену и детей, судя по всему, не обижали.
— Ага, вернулся! — хмыкнул Вудри, помахав рукой. В тускловатом свете сверкнули зубы, крупные и немного желтоватые. Подхватив кувшин, он щедро плеснул в чашу — спиленное конское темя. — Садись. Пей, сколько полезет. И не мешай.
Прежде чем присесть, Тоббо заглянул за шторку. Так, па всякий случай. Жена и дети, тесно прижавшись друг к другу, сидели на волчьей шкуре в дальнем углу; на лицах — испуг, только слепенький улыбнулся: даже сквозь гам различил знакомые шаги и показывает, что рад. Тоббо улыбнулся в ответ. Что с того, что не увидит? Слепенького он жалел искренне, а пожалуй что и любил, если б знал, что такое любить.
Вон оно как. Главный сдержал слово, никого не тронул. Значит может статься, это и впрямь Вудри Степняк. Тоббо присел к столу, хлебнул. Огнянка ошпарила глотку и почти сразу зашумела в висках: вилланы непривычны к хмельному. Разве что ковш ягодного эля на день Четырех Светлых, но с него разве разойдешься? Тоббо поглядел ни стол. Жаль мяса, семье хватило бы дней на восемь. Но что спрашивать со степных? Он отрезал ломоть, заел угли, обжигающие нутро, и попытался слушать.
Но слушалось плохо, голова кружилась и негромко гудела. Перед глазами вертелся бычок, которого Тоббо обучает уже почти год. Он щурил лиловый глаз, вскидывал остренький рог и высовывал длинный серо-синий язык, норовя дотянуться до руки и лизнуть. Еще не отучился. Это плохо. Единорог должен ненавидеть всех, даже воспитателя, иначе сеньор будет недоволен. Молодой граф совсем недавно наследовал владенья отца, он, конечно, захочет покрасоваться перед соседями, а значит, должен к турниру иметь настоящего единорога — быка, внушающего полную меру трепета…
Бычок щекотал щеку, временами расплывался, исчезал, появлялся снова, снова исчезал. В эти мгновения до Тоббо доносились обрывки фраз. Говорили о сеньорах, вроде бы что-то ругательное. И все время повторяли: Багряный, Багряный… и о том, что кто-то вернулся, а кто-то зовет, и опять: Багряный…
Усилием воли Тоббо отогнал бычка. О чем это степные?
— А что нам остается? — говорил лохматый, коренастый, сидевший вполоборота к Тоббо, так что видна была только пегая грива и кончик хрящеватого носа. — Мы ж не лесные, мы на виду. Скоро и бежать станет некуда. А Багряный есть Багряный… если уж он пришел, значит, время. Он-то не подведет. Кто нас гоняет? — сеньоры. Кто из нас их любит? — никто! За чем же дело, вожаки?
— Погоди, — рассудительно перебил худой, одетый почище. — Одно дело — пошарпать замки. Это славно, спору нет. Но ты ж чего хочешь? Ты ж бунта хочешь? Большого бунта, так? К серым потянуло? Иди. Их задавят. А с ними — и нас. А что до Багряного, так кто его видел?
Багряный, Багряный, Багряный… Ба-гря-ный…
Сознание медленно прояснялось, лица уже не кружились, бык махнул хвостом и ушел совсем. Багряный? Что-то такое, знакомое, очень знакомое… сказка, что ли…
И — резко, точно хлыстом, напрочь вышибив хмель: Багряный!
— Ладно, хватит болтать! — Вудри положил на стол тяжелые кулаки и слегка пристукнул. В хижине стало тихо. — Кто не хочет, не надо. Я говорил с людьми — и своими, и кое с кем из ваших. Они все готовы, и им наплевать на наши разговорчики. Не пойдете вы, они выберут других.
— Бунт? Опять… Сколько их было… — буркнул кто-то в темном углу.
— Я не сказал: бунт. Я говорю: война. Все вместе. И разом. И сеньоров
— резать. Всех. Без разговоров.
Тоббо вздрогнул.
— Что?
О нем, похоже, успели позабыть. Во всяком случае, все замолчали и обернулись. В глазах их мелькало удивление — словно взял да заговорил обструганный чурбан для растопки. И только Вудри, совсем не удивляясь, приподнялся, опираясь на кулаки, нагнулся, заглянул прямо в лицо Тоббо и медленно, очень внятно, повторил:
— Сеньоров. Всех. Без разговоров.
Глаза — в глаза. Но Тоббо не видел Вудри. Он смотрел сквозь него. И видел другое. То, что не хотел помнить. То, что, казалось, забыл. Вот стоит корова, пегая и худая. Рядом с ней, на коленях — мать. Она умоляет людей в кольчатых рубахах не забирать Пеструху. Те смеются. А вот — один из них, он уже не смеется, он стоит, растопырив ноги у стены амбара, глаза полузакрыты, руки скрючены на животе, а под ними — красное, и вилы, пробившие кольчугу, не дают воину упасть. И крик. И отец, и соседи, и брат матери: их лица искажены, они сидят на кольях — не тонких, чтобы не прошли насквозь, но и не толстых, чтобы не порвали утробу, позволив казненным быстро истечь кровью. Сеньоры искусны в таких вещах. И — голос матери: «Не бунтуй, сынок, никогда не бунтуй…»