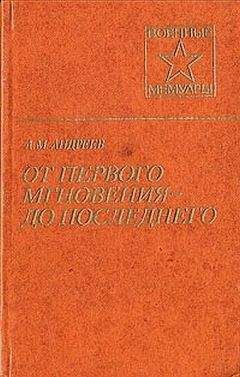Николай Ярославцев - Меч Шеола
Теперь перед ним стояла не роскошная, поразительной красоты женщина, а настоящая богиня. Такая, какой и возразить язык не повернется. С прямой спиной, властно откинутой головой. И взглядом, который проникал в самую душу.
— А горбатого лепила! Случайно пробегала… И про Книгу эту. — Потерянно пробормотал он. И с надеждой в голосе, чувствуя, как на плечи, ломая позвоночник, валится неимоверная тяжесть. — А боги сами не могут?
— Тебе решать. — Так же твердо ответила Марана. — И жить тоже. А боги в дела людей давно перестали вмешиваться, что бы ты знал.
— А варианты есть?
— Пойдешь дорогой мертвых. — Богиня словно и не слышала его бормотания, заранее угадав исход разговора. — Как раз ко времени поспеешь. — А остальное…. Впрочем все там откроется.
Плащ взлетел над ее головой и густая тень накрыла ее, расползлась в стороны и плеснулась в его лицо, утопив в вязкой чернильной мгле.
— Мара мыла раму. — Почему-то всплыли в памяти строчки из старого букваря. — Мама мыла Мару. Бред! Полный бред. И сплошная чернуха. Умер, так умер. И не фиг было переделывать.
Детский, визгливый плач ворвался в уши, пробившись через непроницаемую черноту.
— Ольхом назовите, Ольхом….
Голос женский, истерзанный болью и мукой.
— Бред сумасшедшего.
Ослепительно яркий свет режет глаза.
— Кончается. — Басит мужской глуховатый голос.
Могучего вида старик стоит на коленях под низким потолком, склонив косматую, давно не чесаную голову, стянутую поперек лба сыромятным ремешком. На руках у него голое и мокрое еще дитя.
— Не кричит уже. Захлебнулся. Отходит должно…
Голос уже другой. Не старца.
— Эх, бабы, бабы. Родить затеются и то по — людски не выходит. Сама дух испустила, и дитя уходила.
Свет перед глазами медленно тает, голос убегает во тьму. Но успел заметить, как над плечом старика появилось лицо Мараны.
— Круто! За добычей пришла.
Лицо богини дернулось от обиды. Услышала?
Повернулась к нему, губы шевельнулись в неслышном шепоте.
— Тебе отдаю, воин Ольх, тело Ольха…
И сознание, к радости его, помутилось, увлекая в долгожданный мир тишины и покоя.
Глава 1
— Радко! Ты уж весь спень на много зим вперед выспал. Все бока отлежал. Пролежни наживешь…
— Так уж и наживу… — Лениво отозвался Радко, парнишка, по лицу которого не сразу и угадаешь сколько зим он оттоптал, пятнадцать ли, восемнадцать. А может и все двадцать. Лицо его менялось с неуловимой быстротой, как небо, по которому ползут тучи. То чистое и ясное, Дитя дитем да и только. То вдруг нахмурится, набутусится, глаза спрячутся под сильными надбровными дугами и нальются зимней стужей, скулы затвердеют, а уголках губ спрячется усмешка и парнишкой не назвать. Зрелый муж да и только. Парняга чуть не в сажень ростом.
— Проверил бы лучше борти. А то как бы родич твой не удумал полакомиться. Заодно и брошенные борти поправишь.
Утонул Радко в пахучей траве, охмелел от сладкого запаха под птичий пересвист и трескотню кобылок и нет ему никакого дела до бортей. И совсем уж ему невдомек, как можно пожалеть меду для бэра, когда он ему старшим родичем доводится. А не сам ли он, волхв Вран, топором из матерой лесины его лик вырубал и теслом обтесывал да ставил его прим их жилья, у дуба — батюшки, что подпирает небосвод своей могучей главой.
— Ладно… — Лениво, с видимой неохотой, отозвался он. Насилу разодрал веки, с хрустом, до ломоты в костях выгнул спину и зевнул так, что в ушах звон пошел.
— Не ладно, а ступай. Я тебе уже и кузовок наладил и когти достал. Выспишь спень с молоду, а на старость что оставишь?
Строжит волхв парня, а строгости в голосе нет, как бы не хмурил волхв кустистые седые брови и поджимал бесцветные губы, зарывшиеся в длинную, едва ли не колен, бороду и такие же усы.
Но до греха лучше старика не доводить. Может и посох свой, жердину в руку толщиной, над головой вздеть.
— Да иду уж…
Прыгнул на ноги и снова потянулся, размахнув в стороны руки и выворачивая челюсти.
— Только топор возьму.
С опаской, береженого Род бережет, нырнул в прохладу и полумрак жилья. Не в избу, не в землянку, не в родовое жилище на две, а то и того больше семей. Где по темну от детского визга, плача и крика хоть уши затыкай и прочь беги. А настоящее жилье. Такое, в коем еще щуры, пращуры живали, где быль и небыль во сне воедино переплетаются. Да и только ли во сне? И в яви тоже. Где думается и спится одинако сладко. Меж корней развесистого древа, коему и звания — прозвища никто не помнит, нашел пристанище старый волхв Вран. Пристроил на корнях лежанку для себя, другую приспособил для него, Радогора, а между ними, лежанками, очаг склал. Забросал лежанки душистыми травами, чтобы спать было мягко, увешал по верху разными духовитыми травами да кореньями и так то хорошо долгими зимними вечерами перед очагом сидеть! А если еще в студеную зимнюю пору лаз в жилье волчьей мягкой шкурой закрыть, так ни какая стужа внутрь не заберется.
— Тебя только за смертью посылать. Давно бы сам сползал.
— За твоей смертью, дедко, всем бэрьим городищем бегать надо, а и то не сыщешь.
Огрызнулся Радко и подавился словом. Не бегают за ней, костлявой. Сама приходит. Сама путь — дорогу находит. И юркнул мимо через тесный лаз на волю. И угодил таки под увесистую затрщину.
— А не поминай, что не попадя. Не вали с языка, что не скислося.
— Прости, дедко, не со зла я. Со сна, должно быть, оговорился.
Последние слова Радко прокричал уже на бегу, удаляясь от жилища длинными, по звериному бесшумными прыжками.
И откуда бы взяться злу?
Старый волхв Вран, к которому Радогор попал титешным, ему вместо отца — матери. Отца не стало как раз в ту зиму, когда ему на свет божий явиться. Ушел снимать силки, да пересеклись пути — дорожки с матерым секачем в заснеженном лесу. От глада — стужи обезумел зверь, а увидев человека на своей тропе и вовсе разум потерял. Да и пропорол клыками чрево. А потом, ослепший от ненависти, долго еще терзал бесчувственное тело, вымещая на нем всю накопившуюся злобу. А там и мать умерла, едва успев вытолкнуть его пред людские очи. То ли от огневицы, то ли от тяжелых родов. Налилась жаром, как угли в родовом очаге, впала в беспамятство и преставилась, так и не придя в себя. И не жить ему, Радку на свете, если бы как раз в ту пору не погодился в городище старый Вран. Окинул нагое тельце скорым взглядом, округлил глаза, и, не говоря худого слова, замотал его в холстину и в мягкую козью шкуру.
— У меня жить будет ныне. — Гулким голосом сказал он, уперев не мигающий взгляд в переносье старейшины бэрьего рода.