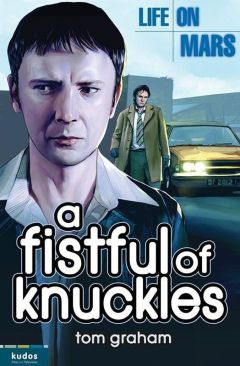Татьяна Мудрая - Карнавальная месса
С тем мы распрощались. Я сел за руль, подозвал Агнию — накануне я слезно пообещал официальному представителю Шамсинга, что буду кормить ее по расписанию и ублажать безо всякого регламента — и укатил восвояси.
По пути вышел небольшой инцидент. Мне примерещилось, будто у Дюрры мотор неровно дышит. Я остановился, вышел, откинул передний капот и тотчас же, не успев понять, что же именно я вижу, розоватое такое и рыбье-слизистое, захлопнул. Изнутри послышалось негодующее урчание.
— Да, старуха, — проговорил я, — Похоже, копаться в твоих кишках ты никому больше не позволишь, разве что под наркозом.
Говорят, сколько ни раскатывай, а останавливаться все равно придется. Возвращаться на родимое пепелище я не собирался, кстати, это оказалось более-менее далеко отсюда. Пристроился на комфортабельной, даже почему-то вторично крытой, площадке ближайшего мегаполя, где, как я знал, с паспортным режимом было нестрого. Охранительная интуиция развилась у меня до баснословных размеров.
Ну, я устроил обеих моих женщин поудобнее, слегка отвинтил вниз окно, чтобы собачка могла дышать без проблем, и заверил их, что постараюсь обернуться побыстрее. А сам отправился поесть и прошвырнуться.
Сейчас как никогда раньше я чувствовал, какая это гадость — быть под колпаком. Дома чистенькие до неестественности, деревья зелены до оскомины, а человеческие лица похожи, как две симметричные половинки одного пухлого подекса. И хотя мои приключения повышибли из меня тягу к спиртному, ходить по здешним улицам всухую было выше всяких сил. Неизжитой атавизм моих обезьяньих предков с силой толкал меня к жидкому вегетарианству. Тем более, что и кормиться тоже надо — и мне, и Агнии — а старые запасы за время путешествия испарились. Дюрре, что ли, скормили мои новые братья и сестры…
Ну, собакины интересы я соблюл мигом: набил полную сумку собачьими консервами. Не ахти что, наша принцесса успела разбаловаться на натуральном питании, но пусть привыкает. Снес в машину, одну жестянку вскрыл, нагрузил ей полную миску чего-то там курино-индюшечьего, чмокнул в носик и снова улетучился.
На меня наехала ресторанная вывеска, и я решил осчастливить собой заведение. Швейцар покосился на мои пышные патлы и задрипанные штаны, но когда я щелкнул его по генеральскому погону со шнуром свернутой купюрой особо крупного размера, догадался, что так ходить — самый шик сезона и причуда миллионеров. В тумане за его спиной блистала роскошь: пианола, дубовые столы, неподъемные стулья, холщовые скатерти с неотстиранными буро-красными пятнами — суровая простота дикого юга, как раз под мои джинсы. Еще тут в стене были широкие полуовальные просветы на волю, целая аркада, пробитая в диком камне бутафорской кладки, и это помогло мне утвердиться в выборе.
Подкатил метрдотель:
— Простите, все места зарезервированы. Ожидается съезд…
Дальнейшее было неразборчиво, потому что я применил к его ротику почти тот же метод, что и к швейцарскому аксельбанту. Он не врал: мебель начали группировать к центру, над этим в поте лица трудились все местные вышибалы, и только поэтому я проник так далеко вовнутрь, как привратнику не думалось.
— Мне бы чего-нибудь съестного на один зуб и графинчик холодного чая, дорогой мэтр, — говорю я и показываю ему уголок третьей бумажки. А что с ними, такой уймой, еще делать? У Дэна и компании в два счета потеряешь последний навык. — И любой закуток, хоть на кухне.
— Я правду говорю, уважаемый, — покачал он прической, — эти персоны посторонних не выносят.
— Так ведь и я тоже, мэтр, — я улыбнулся, распахнул пошире мои глаза (они у меня чистейшие, как у младенца, и наивные) — и прямиком к нише, где за портьерой находился некий потаенный столик на две персоны.
— Ну хорошо, я велю вас обслужить, только справляйтесь побыстрее, — процедил он мне в спину и потрусил решать свои проблемы.
Мне мигом забросили ложки-вилки-ножи, хлеб и две разнофасонных рюмки, сосуд с чем-то бархатисто-коричневым и подносик, где каждая закусь мирно сосуществовала в отдельной ячейке. Последнее вроде бы называлось менажницей. Я быстренько опрокинул (увы, то был не коньяк и даже не бренди, на что я намекал, а нечто куда более гвоздодерное и горлопанистое) и заел салатом. Только собрался повторить и улетучиться, как начали прибывать гости.
Смахивало это на свадебный сговор, большой и бестолковый. Женщины были все поголовно в белом, мужчины — в белом с бордовыми отворотами, военизированные элементы — в чудных коротких накидушках красного цвета и со шпагами. Кишмя кишели береты, шарфики, пояса отделочного тона, распашонки и трико, свитера до колен и юбки в пол, смокинги и шальвары — доминирующего. Этакое если не сии стены, то я видел впервые.
— Теперь, умоляю вас, сидите смирно до конца, — пробормотал метрдотель, мимолетом хапая очередную большую деньгу, — и ждите, может быть, я сумею вас вывести как сотрудника.
Снаружи царило возбуждение и толкучка, беспорядочный гул голосов, по преимуществу молодых. Будто сыгрывался оркестр, не зная, какую пьесу ему предложат исполнить — за здравие или упокой. Столы засверкали узкими бутылками и шеренгой хрусталя, в плоских вазах горой вздымались всякие нездешние фрукты и овощи; народ уже слегка поддал и ковырялся в закусках, ожидая скорого явления то ли жаркого, то ли своего идейного вождя. Сделалось пестро, шумно, душновато и тесновато, и кое-кто, по преимуществу дамы, косился на посадочное место рядом со мной.
Вдруг откуда-то с левого фланга возник пухловатый дяденька с мясистым носом и веселыми, добрыми глазами: один желто-зеленый, другой — зеленовато-серый в карюю крапинку.
— Простите, я составлю вам компанию. Для пожилого человека там не совсем неуютная атмосфера. Так не возражаете?
— Я качнул головой, малость потяжелевшей. Он тотчас притащил свою тарелку, до краев набитую всякой снедью (похоже, что кормился он до того а-ля фуршет) и — о ужас! — альбомчик наподобие старинного дамского кипсека.
— Люблю зарисовывать товарищей по партии, — успокоил он меня. — Дружеские шаржи, знаете. Всем смешно, но, к сожалению, не тогда, когда смотрят через плечо.
Он, в самом деле, набрасывал на полупрозрачной бумаге какие-то силуэты, заполняя один и тот же листок: оторви от липкого основания — всё сотрется. Я наблюдал с пьяноватым интересом.
— Вы, никак, художник.
— Можно и так назвать, — ответил он, растушевывая свою очередную эфемериду и только что не лижа себе языком нос от усердия. Я наполнил обе своих рюмки и придвинул к нему девственницу:
— Двинем за знакомство?
Он поднял голову и оценивающе посмотрел на уровень спиртного. Графин был пуст, а его рюмка получила несколько большую дозу, чем моя — я ведь человек щедрый и справедливый.