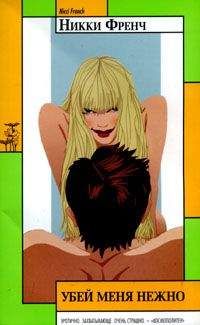Юлия Остапенко - Лютый остров
– Я не прошу тебя отвечать, где они. Рассказывать это ты будешь не мне. Но я хотел удостовериться, что не совершил преступления, покарав их прежде воли Кричащего. Хорошо. Спасибо, ты снял камень с моей души.
– Они будут пытать нас? – спросила Эйда. Спокойно спросила, безо всякого выражения.
– Конечно, – так же спокойно ответил Киан.
– А если... если мы...
– Да что бы мы им ни сказали, Эйда! – воскликнул Ярт, теперь уже не с истеричной злобой, как прежде, а с отчаянной, залихватской бравадой. – Я-то ничего не скажу, увидишь, но пусть бы все рассказал, словечко в словечко выложил все разговоры, что мы вели в университете, – им все будет мало. Они думают, что у человека язык развязывается только на дыбе. Они не верят в добрую волю и слов-то таких не знают, им бы все только жечь и убивать!
Киан ничего не сказал. Самое удивительное, что мальчик говорил правду. Но он не понимал этой правды. Он не знал, что крик угоден Богу, ибо чтит Голос его, но не всякие крики суть Голос Божий, и не каждый умеет кричать. Святейшие Отцы учат этому. Учат терпеливо. И Киан верил, что в последнем крике, который исторгнется из глотки этого заносчивого петушка, прозвучит долгожданное понимание.
– Давайте поспим, – предложил он. – Завтра выйдем на пустошь, там дорога будет трудной.
Мальчишка снова выкрикнул что-то оскорбительное, Эйда снова промолчала. Киан завернулся в плащ и безмятежно уснул. Обличье сонно пульсировало на его груди.
* * *Проснись! Проснись! Проснись! Проснись! Проснись!!!
Он проснулся, но слишком поздно. Не сразу понял отчего: обычно его сон был чуток, и это делало его хорошим стражником в те времена, когда на левой стороне его груди еще не появилось татуировки. Но на сей раз он не смог проснуться, когда следовало. Слышал предостерегающий крик Обличья, бившийся внутри его мозга, но проснуться не мог. Что-то мешало. Лишь когда Киан открыл глаза и ощутил острую вспышку боли в виске, он понял, что это был не сон, а беспамятство. Кто-то ударил его по голове, пока он спал. Но и там, в вязкой цепкой тьме, он слышал Обличье и видел его. Он всегда видел его, даже во тьме.
Видел, слышал – но не смог вовремя ответить на зов.
Он успел заметить над собой перекошенное от страха, но странно сосредоточенное лицо Ярта Овейна – и через мгновение ослеп от боли, по сравнению с которой боль в виске казалась безобидным комариным укусом. Кажется, ему оторвали что-то – руку или ногу? Нет, руки и ноги на месте – на месте и связаны... Но какую-то его часть пытаются от него отсечь, и она жжет его, так, как жгла бы уже оторванная конечность, когда мерещится, будто она все еще при тебе и так болит...
А хуже всего было то, что он знал это чувство. Знал эту боль.
– Ярт. – Голос Эйды звучал издалека, дрожа и колеблясь, как предрассветный сон, который невозможно уловить, как ни старайся. – Ярт, ну что?.. Что?..
Киан застонал. Стон получился сдержанным и негромким. Он постарался дышать ровнее. Он должен был успокоиться.
– Ну что там, Ярт? Что?..
– Да не знаю я! – с отчаянием выкрикнул студиозус, и Киан очнулся окончательно.
Он лежал на земле, на спине, давя тяжестью собственного тела на скрученные руки, голый по пояс, и мокрая трава холодила его лопатки. Овейны стояли над ним на коленях, глядя расширившимися, остановившимися от напряжения глазами – не на него. На его Обличье. О Боже Кричащий, так вот что так болит, понял наконец Киан. Вот что они пытались сделать!
Он почувствовал холод. Звенящий, вымораживающий душу холод беспредельной ярости.
Они раздели его, и теперь все Обличье было на виду, открытое воздуху и ветру. Небольшое, с половину ладони, не понять, мужское или женское лицо с опущенными синими веками, с плотно сжатыми синими губами выделялось на смуглой Киановой коже. Тонкие линии отливали то голубизной, то багрянцем и, казалось, поблескивали в темноте. «Хотел бы я знать, красиво ли оно», – мелькнула у Киана неуместная мысль, и он ощутил мимолетный укол зависти, какой испытывал изредка, думая об этом. Ярт и Эйда Овейны смотрели на Обличье так, как могли смотреть лишь те, кто не носит его на себе, и видели его таким, каким никогда не видел его Киан. Он-то мог лишь опустить голову и увидеть Обличье наоборот, подбородком вверх, вытянутыми уголками закрытых глаз вниз – или в зеркале, но тогда казалось, будто оно с правой стороны груди, а не на сердце. Носящий Обличье – единственный, кому вовек не дано увидеть истинное его лицо. И потому-то он единственный, кому неведом страх, который чувствуют прочие, когда оно открывает глаза.
«Открой глаза, – мысленно взмолился Киан, – открой же глаза и скажи им...»
Оно не могло.
Они замазали ему глаза смолой.
– Мы можем идти? – Эйда шептала, кажется, больше от страха, чем от нежелания привлечь внимание Киана. – Оно теперь не...
– Я не знаю, – повторил Ярт. Его руки, перемазанные в черном и липком, мелко дрожали. – Я не... проклятие! Он очнулся!
Мальчишка принялся дико озираться, ища что-то, потом схватил с земли и занес над головой камень. Киан ощутил легкий удар в висок изнутри – Обличье ослепло, но не онемело, нет, – и понял, что именно этот булыжник едва не проломил ему голову. Он сжался, рванулся и одним движением перекатился по земле в сторону, так что камень с размаху вмялся в податливую влажную землю.
– Перестань! Нет! – Эйда схватила брата за руку. – Ты же обещал мне! Ты говорил, что сможешь...
– Я говорил, что попробую! – заорал в ответ Ярт – и вырвал рукав из ее пальцев. – Чья жизнь тебе в конце концов дороже, его или наша?!
Она села на пятки, бледная, с упавшим на спину капюшоном и растрепанными прядями, выбившимися из кос. Киан осторожно пошевелился. Руки и ноги были стянуты не очень крепко; он не сомневался, что сможет освободиться, но на это уйдет время. Он все еще чувствовал ярость – и боль, боль части его тела, нет, части его, которой они посмели коснуться. Тягучая древесная смола, размазанная по коже, стягивала волоски на груди и жгла, словно каленое железо.
– Вы глупцы, – хрипло сказал он. – Вы не знаете, с чем связались.
В глазах Эйды плескался ужас.
– Ярт, ты говорил, что сосновая смола...
– Сосновая смола с мумие, – отрывисто закончил тот, сжимая и разжимая кулаки. – Или хотя бы с молотыми костьми. Ну нету у меня мумие! И кости только заячьи, а если в и были человечьи, все равно нет ступки, чтобы их растереть. И к тому же... к тому же я никогда этого сам не делал. И не видел даже, как это... Мне рассказывали, – неловко закончил он и заломил пальцы – беспомощным, женским жестом.
Киан почувствовал, что улыбается. Это была та самая улыбка, от которой пели птицы в душе трактирщика Алько по прозвищу Шиповник. Других улыбок не осталось у того, кто звался когда-то Кианом Тамалем.