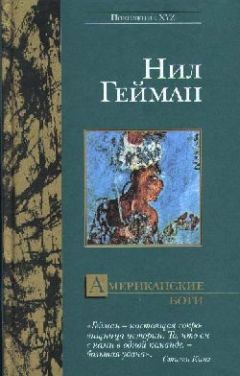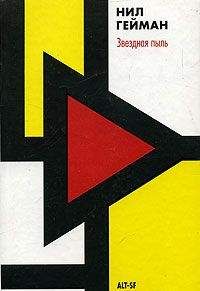Neil Gaiman - Американские боги (пер. А.А.Комаринец)
Одно даже прибавляет при этом ходу, колесо попадает в яму, и каскад грязной воды со льдом летит на ботинки и брюки Салима. С мгновение Салим думает, не броситься ли ему на мостовую перед какой-нибудь из громыхающих машин, а потом понимает, что его шурина больше встревожит судьба чемодана с образцами, чем его самого, и что он не причинит горя никому, кроме любимой сестры, жены Фуада (так как он всегда был отчасти обузой отцу и матери, а его случайные связи в силу необходимости были краткими и анонимными), а кроме того, он сомневается, что хотя бы одна машина тут едет достаточно быстро, чтобы лишить его жизни.
Тут к нему подъезжает потрепанное желтое такси, и благодарный, что может оставить такие мысли, Салим садится.
Заднее сиденье заклеено серым скотчем; наполовину опущенный плексигласовый барьер оклеен предостережениями, напоминающими, что курить воспрещено и сколько стоит дорога до того или другого аэропорта. Записанный на пленку голос знаменитости, о которой Салим никогда не слышал, советует пристегнуть ремень.
– Отель «Парамаунт», пожалуйста, – говорит Салим.
Водитель бурчит и трогает с места, такси вливается в поток машин. Таксист небрит, одет в толстый свитер цвета пыли, а еще на носу у него пластмассовые солнечные очки. День серый, сгущаются сумерки: может, у водителя плохо с глазами? Дворники, елозя по стеклу, размазывают улицу в серые тени и пятна неоновых огней.
Из ниоткуда перед такси возникает вдруг грузовик, и таксист ругается – поминая бороду пророка.
Салим смотрит на именную табличку на приборной доске, но не может различить слов.
– Давно водишь такси, друг? – спрашивает он на родном языке.
– Десять лет, – на том же языке отвечает таксист. – Ты откуда?
– Из Муската, – говорит Салим. – В Омане.
– Из Омана. Я бывал в Омане. Давно это было. Ты слышал о городе Убар?
– Слышал, – отвечает Салим. – Потерянный Город Башен. Его пять-десять лет назад откопали в пустыне, не помню точно когда. Ты был на раскопках?
– Вроде того. Хороший был город. По ночам там ставили шатры три, может, четыре тысячи человек: каждый путник останавливался отдохнуть в Убаре, и музыка играла, и вино текло рекой, и вода там текла тоже, вот почему выстроили там город.
– И я это слышал, – говорит Салим. – Он погиб сколько – тысячу лет назад? Две?
Таксист молчит. Они стоят на светофоре. Красный свет сменяется зеленым, но таксист не трогается с места, и тут же позади начинает завывать какофония гудков. Нерешительно Салим протягивает руку в щель над плексигласом и трогает таксиста за плечо. Голова того вздергивается от неожиданности, он вдавливает педаль газа, и машина рывком проскакивает перекресток.
– Чертблячертчерт, – говорит таксист по-английски.
– Ты, верно, очень устал, друг.
– Я вот уже тридцать часов за баранкой этого Аллахом проклятого такси. Это уж слишком. А до того я спал пять часов, а до того еще четырнадцать отъездил. Перед Рождеством людей всегда не хватает.
– Надеюсь, ты много заработал, – говорит Салим.
Таксист вздыхает.
– Если бы. Сегодня утром я повез одного с пятьдесят первой в аэропорт Ньюарк. А когда мы туда приехали, он выскочил и убежал в зал прилета, и я не смог его отыскать. Пятьдесят долларов тю-тю, и пришлось еще самому заплатить дорожную пошлину на обратном пути.
Салим кивает:
– А я весь день прождал в приемной человека, который отказывается меня принять. Мой шурин меня ненавидит. Я уже неделю в Америке, но только проедаю деньги. Я ничего не продал.
– Что ты продаешь?
– Дерьмо, – говорит Салим, – никому не нужные побрякушки и сувениры для туристов. Гадкое, дешевое, дурацкое, уродливое дерьмо.
Таксист резко выворачивает вправо, объезжает что-то, едет дальше по прямой. Салим удивляется, как это он вообще видит, куда едет – ведь дождь, вечер, да к тому же толстые солнечные очки.
– Ты пытаешься продавать дерьмо?
– Да, – говорит Салим, дрожащий от волнения и ужаса, потому что сказал правду об образцах своего шурина.
– И его не покупают?
– Нет.
– Странно. Посмотри на здешние магазины, только его тут и продают.
Салим нервно улыбается.
Улицу перед ними перегораживает грузовик: краснолицый коп впереди размахивает, кричит и приказывает свернуть на ближайшую стрит.
– Поедем в объезд через Восьмую авеню, – говорит таксист.
Они сворачивают, на Восьмой – сплошная пробка. Воют гудки, но машины не двигаются.
Водитель кренится на сиденье. Его подбородок опускается на грудь, раз, другой, третий. Потом он начинает тихонько похрапывать. Салим протягивает руку, чтобы разбудить его, надеясь, что поступает как нужно. И когда он трясет водителя за плечо, тот шевелится, и рука Салима касается его лица, сбивая солнечные очки ему на колени.
Таксист открывает глаза и водворяет на место черные пластмассовые очки, но уже слишком поздно. Салим видел его глаза.
Машина едва ползет вперед под дождем. Перещелкивают, возрастая, цифры на счетчике.
– Ты меня убьешь? – спрашивает Салим. Губы таксиста поджаты. Салим следит за его лицом в зеркальце заднего обзора.
– Нет, – едва слышно отвечает таксист.
Машина снова останавливается. Дождь стучит по крыше.
– Моя бабушка клялась, что однажды вечером на краю пустыни видела ифрита или, быть может, это был марид, – начинает Салим. – Мы сказали, что это всего лишь самум, небольшая буря, но она твердила, нет, это ифрит, она, мол, видела его лицо, и его глаза были, как у тебя, словно два языка пламени.
Таксист улыбается, но его глаза скрыты за толстыми черными пластмассовыми очками, и Салим не может понять, веселая это улыбка или нет.
– Бабушки и сюда добрались, – говорит он.
– Много в Нью-Йорке джиннов? – спрашивает Салим.
– Нет. Нас тут немного.
– Есть ангелы и есть люди, которых Аллах сотворил из грязи, и есть еще народ огня, джинны.
– Здесь о моем народе ничего не знают. Думают, мы исполняем желания. Если бы я мог исполнять желания, как по-твоему, водил бы я такси?
– Я не понимаю.
Таксист как будто помрачнел. Салим смотрит на его лицо в зеркальце, наблюдает за тем, как шевелятся губы ифрита, когда он говорит:
– Они думают, мы исполняем желания. С чего они так решили? Я сплю в вонючей комнатушке в Бруклине. Я кручу эту баранку для любого вонючего придурка, у кого есть деньги оплатить дорогу, и для кое-кого, у кого таких денег нет. Я везу их туда, куда им нужно, и иногда мне дают на чай. Иногда мне платят. – Нижняя губа у него подрагивает. Ифрит, похоже, вот-вот расплачется. – А один как-то насрал на сиденье. Мне пришлось за ним подчищать, иначе нельзя вернуть в гараж машину. Как он мог такое сделать? Мне пришлось подтирать с сиденья жидкое говно. Это правильно, я спрашиваю?
Салим кладет руку на плечо ифриту, чувствует под шерстяным свитером упругую плоть. Ифрит отвлекается от рулевого колеса, на мгновение накрывает руку Салима своей.
Тут Салиму приходит на ум пустыня: пыльная буря несет красный песок в его мыслях, и в голове трепещут и надуваются парусами алые шелка шатров, окруживших Убар.
Они едут по Восьмой авеню.
– Старики верят. Они не мочатся в дыры в земле, ибо Пророк говорил, что в дырах живут джинны. Они знают, что ангелы бросают в нас пылающие звезды, когда мы пытаемся подслушать их беседу. Но и для стариков, когда они приезжают сюда, мы очень, очень далеки. Дома мне не приходилось водить такси.
– Мне очень жаль, – говорит Салим.
– Дурные времена, – откликается таксист. – Надвигается буря. И пугает меня. Я что угодно бы сделал, лишь бы убраться подальше.
Остаток дороги до отеля они молчат.
Выходя из такси, Салим дает ифриту двадцатку, говорит, чтоб оставил сдачу себе. А потом в порыве внезапной смелости называет ему номер своей комнаты. В ответ таксист молчит. Молодая женщина забирается на заднее сиденье, и такси отъезжает под холодным дождем.
Шесть часов вечера. Салим еще не написал факса шурину. Он выходит под дождь, покупает вечерний кебаб и картошку фри. Всего неделя, а он уже чувствует, как тяжелеет, округляется, становится мягче в этой стране под названием «Нью-Йорк».
В отеле его ожидает сюрприз: в холле, глубоко засунув руки в карманы, стоит таксист. Рассматривает стойку с черно-белыми открытками. При виде Салима он улыбается несколько смущенно.
– Я звонил в твой номер, – говорит он. – Но мне не ответили. Я решил подождать.
Салим тоже улыбается, касается его локтя.
– Я здесь, – говорит он.
Вместе они входят в освещенный тусклым зеленым светом лифт, держась за руки, поднимаются на пятый этаж. Ифрит спрашивает, можно ли ему принять душ.
– Я такой грязный, – говорит он.
Салим кивает. Потом садится на кровать, которая занимает почти все пространство белой комнатушки, слушает звук бегущей воды. Салим снимает ботинки, носки и наконец остальную одежду.