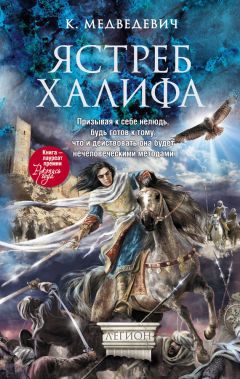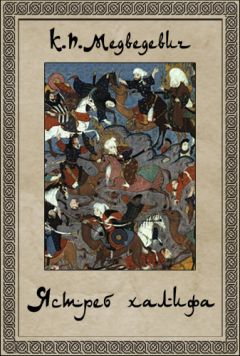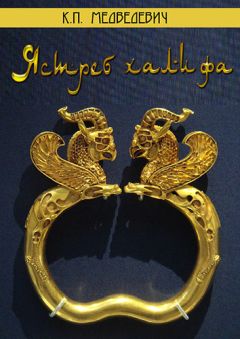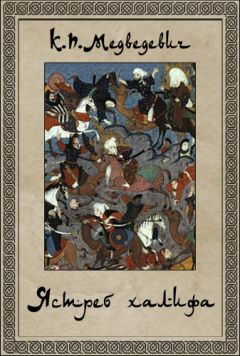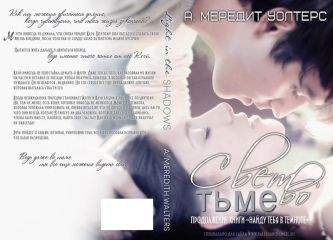Ксения Медведевич - Ястреб халифа
И нерегиль обернулся, словно просыпаясь, и у Аммара пробежал по спине холодок. На него смотрели огромные, серые, переливающиеся нездешним сиянием глаза, в которых нельзя было различить ни радужки, ни зрачка.
Праздновать победу пришлось без нерегиля: въехав в город, он прошел в отведенные ему комнаты, завалился, как был, в кольчуге и накидке, на расстеленные ковры — и уснул. На семь дней. На четвертый день в Фейсалу, подгоняемый истошными письмами Аммара, примчался Яхья — хорошо, что старый астроном пустился в путь еще в прошлую луну. Яхья пощупал пульс на бледном тонком запястье, оттянул прозрачное, как перламутровая раковина, веко, прислушался к ровному дыханию. И успокоил столпившихся у маленького домика близ Пряничных ворот людей — самийа спит. Просто спит. Видимо, он устал. И теперь вот спит. Мало ли, может, все воины аль-самийа так долго спят после боя, мы же не знаем.
Утром восьмого дня Тарик глубоко вздохнул, сжал руки в кулаки, легонько вскрикнул во сне — и сел на подушках. Чуть пошатываясь даже в сидячем положении, он довольно долго вбирал в себя окружающие краски и предметы, — видимо, пытаясь понять, где находится. Яхья на коленях подполз к нему с чашкой айрана. Самийа долго смотрел на него, явно не узнавая. Зато когда глаза его прищурились и посмотрели осмысленно, нерегиль резко наподдал по чашке рукой, и Яхья умылся кислым молоком по самый кончик бороды.
Старый астроном засмеялся, вытирая рукавами лицо, и сказал:
— О свирепейшее из созданий Всевышнего! Теперь я вполне уверился в том, что с тобой все в порядке и ты окончательно пришел в себя!
Мрачно осмотрев то, что было на нем надето, — на второй день беспробудного сна Аммар приказал попискивающим от страха невольникам снять с нерегиля перевязь с мечом и кинжалом, доспех и вообще все, вымыть его и переодеть в чистую одежду, поэтому сейчас на Тарике не было ничего, кроме штанов и рубахи, — так вот, мрачно осмотрев себя, нерегиль встал, сделал, пару раз пошатнувшись, несколько шагов, и сообщил, что ему нужно видеть повелителя верующих. Затем, явно отчаявшись в своей возможности ходить не падая, снова сел на подушки. Яхья попытался с ним заговорить, но Тарик зашипел на него на каком-то странном наречии, по-видимому, на своем родном языке, и Яхья, вздохнув, поклонился и вышел из комнаты.
Аммар явился незамедлительно. Он попытался сохранить достойный и царственный вид при входе в комнату, но у него не получилось. Он подпрыгнул к Тарику и тряхнул его за плечи:
— Слава Всевышнему, ты жив!
Округлив глаза, самийа посмотрел на него, как на безумца, и спросил:
— Да что с тобой, человек, ты явно не в себе. С чего это я должен быть мертв?
И вдруг вздохнул и сказал:
— У меня есть новости для тебя, Аммар. Если мы хотим прекратить набеги джунгар и обезопасить аш-Шарийа от угрозы из степи, нам нужно идти в степь. Его нужно убить, Аммар. Иначе они все время будут возвращаться и накатывать заново и заново — как волны морского прибоя.
— Кого убить? — нахмурился Аммар.
— Эсен-хана. Великого хана джунгар. Убить его тело, убить куст его души, разрубить на части и сжечь их Великое белое знамя, сульдэ.
Халиф некоторое время помолчал и сказал:
— Сдается мне, Тарик, что об этом хане ты знаешь кое-что такое, чего не знаю я.
И Тарик ответил:
— Помолись о помощи Богу, которого ты чтишь. Мы идем сражаться против демона, вселившегося в человеческое тело.
Закатное солнце стояло низко и больно било в глаза. Не спасали даже плотные шелковые занавески — небо горело каким-то предсмертным, прощальным блеском, оставляя на изнанке век черный ослепительный круг уходящего за горизонт светила.
Тарик сидел лицом к солнцу, не по-человечески широко раскрыв глаза — сейчас они казались пустыми озерцами золотого света. Болезненно сморгнув — о Всевышний, как он так может, там же словно шип торчит, — Аммар повернулся обратно, к гомону и крикам. Военачальники пожимали плечами и то и дело проводили руками по лицам, призывая в свидетели Всевышнего:
— О мой халиф, это безумие! Сейчас из степей вышла армия в сто пятьдесят тысяч сабель — а сколько там еще воинов? Они бесчисленны, подобно песчинкам на морском берегу!
Один из лучших его военачальников, Мубарак иль-Валид, сидел, пощипывая свои роскошные парсидские усы:
— Ибн Ахмад прав и говорит дело, повелитель. Всевышний указал нам путь к мужеству, но не к безрассудству. Идти в степь с пятнадцатью неполными тысячами воинов — безумие. Мы затеряемся среди холмов и трав, как камешек на дне пруда.
Тарик отрешенно таращился в окно — земля и небо торжественно хоронили солнце. Нестерпимое сияние спало, и небеса стало затягивать розово-фиолетовым. Сумерки здесь, в Фейсале, смыкались быстро — и также быстро сменялись непроницаемой ночью. А сейчас уходящее солнце забирало с собой золото и аквамарин, редкие полосы облаков темнели на роскошном, необъятном полотнище небосвода.
Аммар пожал плечами и ответил:
— Вот он вот, — и кивнул в спину нерегилю, — говорит, что так надо. Надо идти в степь.
Посмотрев на неподвижную спину самийа, Мубарак аль-Валид нахмурился и снова провел ладонью по огромному усу — о таких женщины восторженно говорили, что здесь хватит места орлиному гнезду. Тарик казался языческой статуей — безмятежный, неподвижный, полы накидки лежат на полу ровными белыми складками.
— Хорошо, — устало кивнул командующий Правой гвардией. — Хорошо, мы пойдем в степь. А как найти, где стоит кочевье этого самого великого кагана? Опять за птичкой полетим?
Вокруг сочувственно покивали и даже начали посмеиваться. Аммар строго сказал:
— Тарик говорит, что нас проведут джинны. Точнее говоря, двое джиннов…
Военачальники обреченно переглянулись. Самийа даже не пошевелился на своем месте в проеме огромного, в пол, окна.
И тогда старый Тахир ибн аль-Хусайн сказал:
— О повелитель! Нет силы, кроме как у Всевышнего, единого живого, создавшего все! И если нам суждено есть хлеб живых — значит, так тому и быть, а если нам предначертан хлеб мертвых — то и тут ничего не изменишь. Но я заклинаю тебя разводом и освобождением всех моих невольников — останься в Фейсале.
— Не проси и не клянись, о Тахир, — улыбнулся Аммар. — Ибо решение мое утвердилось в моем сердце. Я должен идти во главе войска — таков мой долг эмира верующих и предстоятеля аш-Шарийа перед лицом Всевышнего. Это джихад, о Тахир. Кому, как не халифу, предводительствовать войском в священной войне?
Военачальники стали склоняться в покорных поклонах — один за другим.