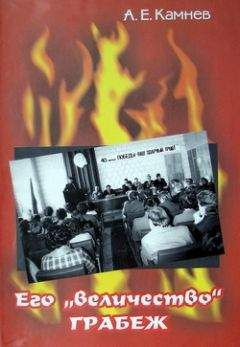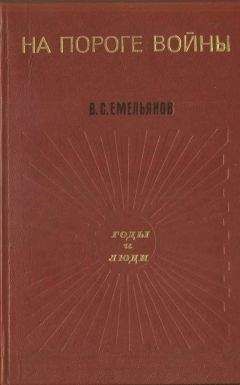Карина Дёмина - Медведица, или Легенда о Черном Янгаре
— Я не умею.
Лаакье только рассмеялась.
Над чем? Я и вправду дружить не умела.
Те дети, что жили в Лисьем логе, сторонились меня, не зная, как себя со мною держать. Ведь я была и хозяйской дочкой, и бастардом. Оттого и сами они стояли одновременно и выше меня, и несоизмеримо ниже. Пожалуй, не возвышайся за моей спиной грозная тень Ерхо Ину, тяжко мне пришлось бы.
— Расскажи, — водяница присела на старом камне, поверхность которого тотчас заблестела водой. — Расскажи про людей. Ты еще помнишь.
— Что помню?
— Как быть человеком.
— Помню. И помнить буду.
— Нет, — водяница переложила гребень в левую руку. — Все забывают.
Быть может.
Но я не забуду.
— Расскажи…
…и я рассказала о том, как однажды появилась на свет в Лисьем логе, и мой отец, спеша сдержать слово, признал бастарда…
Лаакье слушала. Ей нравились сказки.
Мой лес был велик, пожалуй, много больше Лисьего лога с прилегавшими к нему полями. Его края, отороченные молодыми березняками, были наполнены светом и жизнью, а Горелая башня, сердце, темное, упрятанное в грудную клетку старых дубов и елей, спрятано так, что ни человек, ни зверь не мог до него добраться. Впрочем, люди предпочитали держаться окраин.
И я подумывала о том, чтобы выйти к ним, заговорить, но всякий раз останавливала сама себя. Что я скажу вот этой женщине, которая, склонив колени у старой сосны, собирает бруснику? Пальцы ее красны и неуклюжи, а ягода в этом году мелкая, что бисер.
Я могу провести ее туда, где брусника уродилась крупной, но…
…женщина вскидывает голову, сдвигает красную косынку, повязанную узлом вперед, чтобы ниекке-лесной человек голову не закружил, и хмурится.
А я вижу в ее глазах болотную гниль.
…вчера она тайком подбросила соседской корове паслену, потому что корова эта давала молока вдвое больше, чем любая другая. И соседка этим хвасталась.
Ерунда какая…
…но мне противно. И я отворачиваюсь.
Ухожу.
А на следующий день встречаю молодого охотника. Он доволен: четырех зайцев добыл. И на олений след стал, но…
…я подаюсь ближе и вновь цепляюсь за взгляд.
Не болото, скорее озерцо, которое только начало зарастать илом. Нравится ему девица одна, но она, гордячка, и смотреть в его сторону не желает. Других женихов ждет… и вот если распустить сплетню, что гордячка не так уж и горда, что готова она за бусы или браслеты серебряные с любым пойти, то поразбегутся женихи. И ничего-то ей не останется, кроме как выйти замуж за охотника. А там он уже сумеет припомнить ей былое унижение.
И сердце его, срываясь вскачь от радости — хорошо придумал — зовет меня.
Это ведь правильно будет — остановить зло.
Убить?
Даже если так… я ведь хийси…
…но еще помню, как быть человеком. И снова ухожу.
Останавливаюсь, встретив совсем юную девушку, глаза которой чисты.
И почти решаюсь сделать шаг навстречу, когда чистота сползает: маска.
Все люди носят маски.
И я умею видеть сквозь них. Вот только это умение обрекает меня на одиночество. Ведь и вправду не считать же подругой водяницу?
— Прелестненько! — зевнула лаакье и сонно потерла глаза. — Люди… вкусненькие. А что думают… какое тебе дело? Тебе есть надо, а то слабенькой будешь.
— Я не хочу есть людей.
По гладкой коже водяницы катились капли воды. Дождь шел второй день кряду, и моя шкура промокла насквозь. Я сбросила ее наземь, а сама забралась на ветку.
И наверное, мы с лаакье были похожи сейчас: нагие, белокожие и… неживые.
— Почему? — она расчесывала мои волосы, вплетая в них тонкие жемчужные нити. — Люди вкусненькие. Попробуй.
И она снова зевнула.
Подступала зима, и омут, в котором она жила, уже расстелил перины ила.
Скоро ляжет моя подруга на дно, позволит укрыть себя палой листвой, опутает волосами старую коряжину, чтобы весенним паводком не унесло, да и заснет.
И мне так поступить советует.
Но я все же не медведица…
…в тот день, когда лаакье не вышла из воды, я поняла, что осталась совсем одна. И звонкая многоголосица леса теперь вызывала только неясную печаль.
Ко всему вернулись сны.
И в них мое одиночество оставалось за границей рук, таких надежных.
И таких жестоких.
И утром, силясь отогнать наваждение, я склонялась над водой. Она — тоже зеркало. И отражала она мое лицо, перечеркнутое белой полосой шрама.
Лекарства хватало до вечера. А затем сны возвращались. И утром я просыпалась в слезах и с шестигранной монеткой в руке. Следовало бы выбросить ее, но… я не находила в себе сил расстаться с подарком Янгара. А также не знала, чем занять себя.
И если первое время я радовалась от понимания того, что мне нет нужды делать что-либо, то постепенно я стала сама искать работу.
…собрать стекло.
…избавить старую березу от вывернутой, иссохшей ветви.
…снять шары омелы с молодого дуба, у которого есть еще шанс выжить.
…просто обойти свои владения, убеждаясь, что все в них по-прежнему. Как вчера. Позавчера. За день до того… отныне и навсегда. Я стала хозяйкой леса, пусть на поясе моем и не висели ключи от него. Да и пояса у меня больше не было.
Зато была неизъяснимая тоска.
Потому, когда синицы сказали, что на опушке моего леса появились люди, я решила взглянуть на них.
Глава 17. Поединок
Семь дней дал Янгхаар Каапо своему врагу, и велел поставить шатер, достойный Олли Ину.
Раны его омыли, перевязали.
И чтобы не было ни в чем укора, отдал Янгар дорогую одежду, сапоги из белого сафьяна, в которых только по дому, по коврам ходить, а к ним — шпоры посеребренные да коня из собственного табуна.
И слуг приставил, как к гостю дорогому.
Шептались, что желает Черный Янгар замириться, что дня не пройдет, и покинет Олли Ину шатер, но время шло, и не пытался сын Ерхо сбежать, держал данное слово.
Когда же вышло время, обратился Янгхаар к своим людям так:
— Завтра на рассвете я буду биться с Олли Ину. И тот из нас, кто победит, будет вам господином. Служите ему верно.
Промолчали аккаи.
Алым полыхнул рассвет.
И дождь, что шел всю ночь, унялся. Сизая трава была мокра, а налитое краснотой солнце отражалось в лужах. Сапоги топтали его, и капли грязи оседали на белом сафьяне.
Олли Ину снял дорогой халат и с поклоном протянул его Янгару:
— Благодарю за гостеприимство, — так он сказал.
— Я и вправду был бы рад видеть тебя гостем, — отвечал Янгар и, передав халат слуге, протянул клинок. Палаш, принадлежавший Олли, был вычищен и наточен так, что волос на лету перерубал.