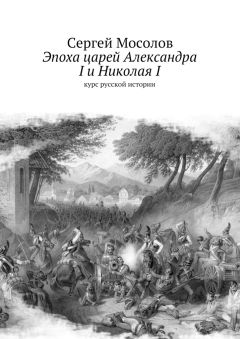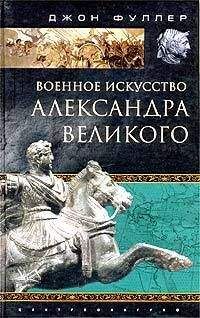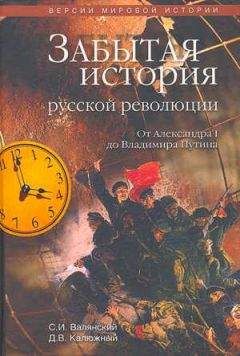Сергей Алексеев - Волчья хватка-2
Всякая тяжёлая работа была для араксов, как поединок на земляном ковре, где так же чётко выделялись три стадии — зачин, братание и сеча, дабы не сломаться и выдержать схватку до победного конца. Тем более что от перегрузок ещё не зажившие раны на предплечье начинали кровоточить, а от долгой голодовки иногда темнело в глазах и внезапными судорогами сводило запястья рук. Тогда Ражный втыкал топор, переводил дух и делал несколько глотков сыты — воды, разведённой с мёдом; неведомый покровитель словно знал его состояние, угадывал намерения и положил в короб все, что необходимо для тяжёлого труда.
Перед рассветом Ражный перекрыл плахами потолок, набросал толстый слой глины и сделал короткий перерыв с завтраком из заледеневших хлеба и мяса, хотя всякую пищу, приготовленную более суток назад, следовало освежать огнём. Начинался третий этап поединка, самого сложного, многогранного и в условиях, когда уже накопилась усталость. Сначала он вырубил дверной и три оконных проёма, после чего собрал из плах и навесил дверь на «волчки» вместо петель, затем наколол и натесал из сухостойной сосны брусков и стал вязать оконные рамы. Мастерить одним топором такие тонкие столярные изделия было сложно, поэтому они и получались топорные. Стеклить их Ражный решил вечером, а пока было светло, наломал из каменистого берегового обрыва подходящий плитняк, натаскал глины, песка и уже к вечеру сложил печь, напоминающую те, в которых когда-то плавили металл. Длинная топка была одновременно обогревателем, лежанкой и варочной печью, и если в древности поддув осуществлялся из глубокого колодца с водой и сложной вакуумной системой, похожей на инжекторную, то Ражный сделал его просто с улицы, за счёт трубы из дуплистого дерева. Каменная вытяжная труба сначала выкладывалась вдоль стены в виде борова, затем поднималась вверх и сквозь потолок выходила наружу. Такая печь первый раз растапливалась осенью сухими дровами, после чего туда закладывались двухметровые кряжи из сырой берёзы, которые не горели огнём, а медленно тлели, поэтому одной закладки хватало на двое-трое суток, а если прижать поддув, то и на дольше.
Дело было за спичками или угольком, чтоб растопить такую печь…
Вечером он приготовил замазку из древесной смолы и сухой глины, после чего стал вставлять в раму глазки, собирая их из обломков стекла. Получалось что-то похожее на мозаику или витраж, поскольку иногда попадались цветные осколки, плоские кусочки тонкого фарфора и битых зеркал. Все это едва держалось и рассыпалось бы при первом сильном ветре, а чтобы стекла держались, эту мозаику следовало хорошенько подсушить и затем прокалить на огне до каменной твёрдости.
Не хватало только огня…
Этим кропотливым, почти ювелирным делом Ражный умышленно занялся на ночь глядя, чтобы послушать ночной лес и, паря летучей мышью, посмотреть на все передвижения в окружающем пространстве. Однако до слуха доносился лишь шум ветра, пощёлкивание ломающихся заберегов на речке, а чуткий взор нетопыря не улавливал ни единого живого существа в округе, если не считать синиц, спящих дятлов и белок, ушедших на ночёвку в тайно. Скорее всего, незримого, таинственного покровителя отпугивало его бодрствование, и далеко за полночь Ражный перенёс остеклённые рамы в сруб, повесил короб как приманку и сел на бревна, уложенные вместо крыльца: спать в доме ещё было нельзя, ибо от влажной нетопленной печи исходил сырой холод, а промороженные бревна охватывало инеем.
Он намеревался высидеть так до утра, но усталость и дарёный тулуп, это гениальное изобретение людей северных стран, которое днём можно носить на плечах, выдюживая любой мороз, а ночью превращать в матрац, одеяло и подушку; этот мягкий и невероятно располагающий ко сну тулуп на какой-то миг сломал волю, и веки опустились сами собой.
Ему показалось, дремал он не больше минуты, но когда открыл глаза, короба уже не было и на его месте чуть колыхалось на ветру нечто тряпичное. Не надевая ботинок, Ражный сбежал с крыльца: стояла зыбкая, ветреная ночь, далее небольшой разрубленной поляны высилась непроглядная стена ельника, внизу черно поблёскивала речка…
А на высоком пне вместо короба висела новенькая, многослойная рубаха поединщика, ещё пахнущая первозданным белёным холстом, и такие же укороченные порты.
Только вот пояса не было…
На сей раз он даже не подивился находке, а с тайной надеждой ощупал её, пошарил руками вокруг дерева: сейчас не рубаха была нужна, и даже не пояс — спички, зажигалка или горящая головня!
На худой случай, кресало и трут, чтобы высечь огонь, и тайный покровитель, остро чувствующий, что ему надо, должен был принести что-нибудь из этого…
Не принёс…
И не оставил ни единого отпечатка обуви, хотя отыскать что-либо в темноте, да ещё на отсыревшем, побитом, испещрённом павшей кухтой снегу, было невозможно.
Ражный взметнулся нетопырём и сразу же увидел тающее, розово-синее свечение свежего и очень знакомого следа вдоль берега — следа, который могла оставить только женщина, причём, не чья-то жена, а целомудренная дева.
Например, наречённая невеста Оксана…
Пока он не узрел этого следа, чаще всего покровителем представлялся некий инок, живущий неподалёку и как-то связанный с родом Ражных, но не желающий показывать своего благого расположения, чтобы не навлекать на себя гнев бренок или настоятеля Урочища. Все пожертвованные ему вещи источали неуловимое мужское начало, если не считать заботливого, женского подбора продуктов. Сейчас же, купаясь в этом розово-синем сиянии, Ражный мог вообразить себе какую-нибудь кукушку, высматривающую себе жениха, если верить сказкам кормилицы Елизаветы.
Но почему-то в сознании никак не появлялся образ правнучки Гайдамака…
Подмывало в тот же час броситься в погоню, однако при всем желании он не мог совокупить полет летучей мыши с волчьей прытью. Чтобы войти в раж и преследовать зверя, человека и вообще любое теплокровное существо, необходимо самому избавиться от всего, что оставляет след: прежде всего выпарить в бане всяческую усталость, отмыть все резкие запахи, надеть чистое бельё и обратить человеческие чувства и мышцы в волчьи…
Он ещё раз поднялся над розово-синей цепочкой сполохов, вьющихся между деревьев, и вдруг усомнился в своей догадке: цветовая гамма следа Оксаны, кажется, была мягче, ровнее, без контрастных переходов, а этот выглядел ярко, сильно, будто щедрые, густые мазки широкой кистью. Особенно густой синий — будто ночное чистое небо!
— Благодарю! — крикнул он вдоль реки. — Кто бы ты ни был!
И без всякой надежды побрёл в ту сторону, куда убегали цветные сполохи.