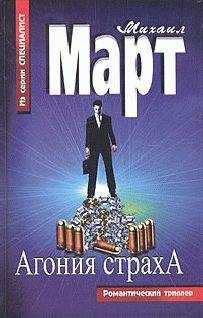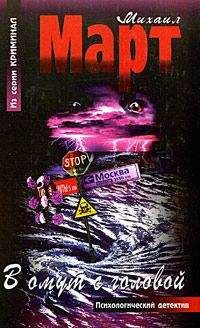Джин Вульф - Пыточных дел мастер
Глава 13
Пиктор города Тракса
Следующие десять дней я прожил как пациент в камере верхнего подземного яруса (не так уж далеко от той, где держали Теклу). Поскольку гильдия не имела права держать меня в заточении в обход законных процедур, дверь не запирали, однако снаружи дежурили двое подмастерьев с мечами, и я переступал порог лишь единожды, на второй день, когда меня водили к мастеру Палаэмону, чтобы доложить о происшедшем и ему. Это, если хотите, и было судом надо мной, а оставшиеся восемь дней ушли на вынесение приговора.
Говорят, будто время имеет странное свойство — сохранять в целости факты, делая нашу прошлую ложь истиной. Так вышло и со мной. Я лгал, утверждая, будто люблю нашу гильдию и не желаю для себя иной жизни. Теперь ложь эта оказалась правдой: жизнь подмастерья или даже ученика казалась мне бесконечно привлекательной. Нет, не только от уверенности в скорой смерти — все это тянуло к себе оттого, что было бесповоротно утрачено. Теперь я смотрел на своих братьев глазами пациента, и с этой точки зрения они казались неизмеримо могущественными, воплощенными первоосновами огромного, враждебного и почти совершенного механизма.
Теперь, находясь в совершенно безнадежном положении, я ощутил на себе то, что внушил мне однажды мастер Мальрубиус: надежда есть физиологический процесс, не зависящий от реалий внешней среды. Я был молод, я получал достаточно пищи и вволю спал, и потому — надеялся. Вновь и вновь, засыпая и просыпаясь, я мечтал о том, что в самый последний миг Водалус явится мне на выручку — и не один, как в тот раз в некрополе, но во главе армии, которая сметет с лица Урса тысячелетнюю гниль и снова сделает нас повелителями звезд. Мне часто казалось, будто из коридора доносится грохот шагов этой армии, а порой я даже подносил свечу к дверному окошку, так как думал, что видел там, за дверью, лицо Водалуса.
Я, как уже было сказано, не сомневался, что буду казнен. Больше всего в те дни мои мысли были заняты тем, как именно это произойдет. Я был обучен всем премудростям палаческого искусства и теперь оценивал способы казни — иногда один за другим, в том порядке, в каком их нам преподавали, иногда же — все вкупе, словно впервые открывая для себя сущность боли. Жить день за днем в камере под землей и думать о муках — мучительно само по себе.
На одиннадцатый день меня вызвали к мастеру Палаэмону. Я снова увидел яркий солнечный свет и вдохнул воздух, напоенный влагой, принесенной ветром, предвещающим скорую весну. Но — чего стоило мне пройти мимо распахнутых дверей башни и увидеть сквозь нее ворота в стене, возле которых мирно почивал в кресле брат привратник!
Кабинет мастера Палаэмона показался мне огромным и бесконечно — словно все заполнявшие его пыльные книги и бумаги были моими собственными — дорогим. Мастер попросил меня сесть. Он был без маски и казался гораздо более старым, чем раньше.
— Мы с мастером Гурло обсудили твой поступок, — сказал он. — Пришлось посвятить в происшедшее также и подмастерьев и даже учеников. Им лучше знать правду. Большинство сошлось на том, что ты заслуживаешь смерти.
Он сделал паузу, ожидая, что я отвечу на это, но я молчал.
— Однако многие высказывались и в твою защиту. Некоторые подмастерья в частных беседах со мной и с мастером Гурло настаивали на том, чтобы тебе было позволено умереть без боли.
Уж не знаю, отчего, но мне вдруг показалось необычайно важным, сколько нашлось таких, кто выступил в мою защиту, и я спросил об этом.
— Более чем двое, и более чем трое. Точное количество не имеет значения. Или ты не думаешь, что заслужил смерть в муках?
— Я желал бы казни на «Революционизаторе», — сказал я, надеясь, что, если попрошу о такой смерти как о снисхождении, мне будет отказано.
— Да, пожалуй, это подошло бы. Но…
Он снова сделал паузу. Мгновения тишины тянулись бесконечно долго. Первая бронзовая муха нового лета, жужжа, билась о стекло иллюминатора. Хотелось и прихлопнуть ее, и, поймав, отпустить на свободу, и заорать на мастера Палаэмона, чтобы он продолжал, и даже убежать прочь из его кабинета; но ничего этого я сделать не мог. Вместо этого я опустился в старое деревянное кресло возле его стола, чувствуя, что уже мертв, хотя смерть еще впереди.
— Понимаешь ли, мы не можем казнить тебя. Тяжеленько мне было убедить в этом Гурло, и все же это — так. Убей мы тебя без суда, окажемся не лучше, чем ты — ты обманул нас, а мы в этом случае обманем закон. Инквизитор, безусловно, объявил бы это убийством, и на репутацию гильдии легло бы несмываемое пятно.
Он снова умолк, ожидая, что я скажу, и я заговорил:
— Но за то, что я сделал…
— Да. Приговор был бы совершенно справедлив. Однако мы не имеем законного права своевластно лишать тебя жизни. Обладатели этого права охраняют свои прерогативы ревностно. Обратись мы к ним — вердикт был бы однозначен, но дело получило бы нежелательную для гильдии огласку. Наш кредит доверия был бы исчерпан раз и навсегда, что повлекло бы за собой строгий сторонний надзор над делами гильдии. Хотелось бы тебе, Северьян, чтобы наших пациентов стерегли солдаты?
Перед внутренним взором моим внезапно встало то же видение, что и тогда, под водой, когда я едва не утонул. Как и в тот раз, оно влекло к себе — мрачно и неодолимо.
— Скорее я предпочел бы расстаться с жизнью добровольно, — ответил я. — Отплыть подальше от берега, где никто не придет на помощь, и утонуть.
Тень горькой улыбки мелькнула на морщинистом лице мастера.
— Я рад тому, что никто, кроме меня, не слышал твоего предложения. Мастер Гурло был бы слишком уж рад отметить, что до наступления купального сезона придется ждать не менее месяца, иначе происшествие вызовет толки.
— Но я говорю совершенно искренне! Да, я хочу умереть безболезненно — но именно умереть, а вовсе не оттянуть гибель!
— Твое предложение неприемлемо, даже если бы лето уже было в самом разгаре. Инквизитор все равно мог бы решить, что мы причастны к твоей смерти. Поэтому мы — к твоему счастью — сошлись на решении менее радикальном. Известно ли тебе, как обстоят дела с нашим ремеслом в провинции? Я покачал головой.
— Там оно в полном упадке. Нигде, кроме Нессуса — кроме нашей Цитадели, — нет отделений гильдии. В провинциальных селениях имеется разве что казначей, лишающий приговоренных жизни тем способом, какой назначают местные судьи. Человека этого неизменно боятся и ненавидят. Понимаешь?
— Эта должность слишком высока для меня, — отвечал я.
Это было сказано от чистого сердца — в тот миг я презирал самого себя гораздо больше, чем гильдию. С тех пор я часто вспоминал эти слова, хотя они были моими собственными, — и, будь даже я в беде, становилось как-то полегче.