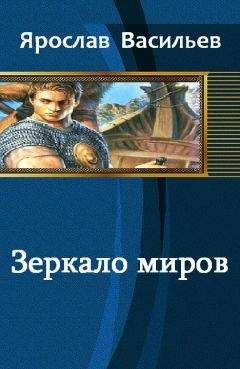Мервин Пик - Горменгаст
Когда шум борений с ветками стих, и снова пало теплое неизбывное безмолвие, Титус ступил на мох. Мох оказался упругим, пружинистым, а золотистая поверхность его — на удивление плотной. Титус сделал еще шаг, высоко подняв ногу, а опустив ее, обнаружил, что нет ничего проще, нежели плавно перелиться в следующее движение. Эта почва была словно и создана для бега, ибо каждый шаг подбрасывал тело, понукая его сделать следующий. Скакнув вправо, Титус гигантскими прыжками понесся по темно-зеленому краю леса. На время восторг этих пролетов по воздуху поглотил его целиком, но едва новизна их начала приедаться, ее сменил всевозрастающий страх, ибо тянувшаяся справа сплошная завеса лесной закраины выглядела бесконечной, уходящей в неразличимую даль; а неподвижное, беззвучное свечение дубов и бескрайние мшистые просторы слева, казалось, не менялись ни на йоту, хоть мимо Титуса и проплывало одно дерево за другим.
Ни единого птичьего зова. Ни единой белки среди ветвей. Ни единого падающего листа. Даже ноги Титуса ударяли в мох беззвучно; только легкое дуновение, скользнувшее мимо, и напомнило ему, что в мире существует нечто, именуемое звуком.
И теперь он возненавидел то, что так ему полюбилось. Возненавидел мертвое, ужасающее безмолвие. Возненавидел золотистый свет меж деревьями, бесконечные прогалины мха — даже скользящий полет от одного оставленного им отпечатка ступни к другому, который еще предстояло оставить. Ибо казалось, что его тянет к себе некое опасное место либо существо, и сил одолеть эту тягу у него нет. Трепет, с которым он взвивался в воздух, обратился в трепет Страха.
Вообще говоря, Титус боялся отлучаться от темной стены справа, поскольку лишь с ее помощью и мог определить, где находится; однако теперь он видел в ней часть какого-то дьявольского замысла, ему стало казаться, что если он так и будет цепляться за ее спутанный подол, то в конце концов окажется в лапах некоего затаившегося в засаде ужаса, поэтому Титус резко поворотил влево и, хоть простор дубравы уже представлялся ему обиталищем отвратительных призраков, помчал в самое ее золотистое сердце со всей, на какую был только способен, скоростью.
Он несся во весь опор, а страхи его все возрастали. Он стал скорее антилопой, чем мальчиком, но при всей его быстроте оставался все-таки новичком в искусстве полета по мху, — ибо внезапно, еще летя по воздуху с выброшенными в стороны, чтобы не потерять равновесия, руками, Титус мельком, на кратчайшую долю секунды, увидел живое существо.
Подобно ему, существо летело по воздуху, но тем сходство и исчерпывалось. Титус был худощав, но тяжеловат. Существо же это казалось почти бесплотным. Оно плыло, подобно перышку, по золотистому воздуху, вытянув вдоль тела тонкие руки и чуть отвернув и склонив голову, как если бы та лежала на подушке из воздуха.
Теперь Титус вполне уверовал, что спит: что бег его совершается в безднах сна: что страх его есть страх ночного кошмара: что увиденное им — всего лишь привидение, и что хоть оно его заворожило, было б нелепостью преследовать столь мимолетное видение ночи.
Если бы Титус твердо знал, что не спит, он, конечно, ринулся бы в погоню, но слишком робкой была надежда нагнать стройное существо. Ибо, хоть эмоции и способны пренебречь бодрствующим разумом, заглушить его, в снах мир неизменно остается логичным. И потому, страшась золотистых дубов своего сновидения, Титус так и несся скачками — без усилий, без звуков, как оно и подобает сну, — в глубины леса, по упругому бархату мха.
Однако, как ни уверен был Титус в том, что он спит, как ни упруг и легок был внешне этот летучий бег, усталость одолевала мальчика. Инкрустированные, користые стволы гигантских дубов проплывали мимо него. Пустота стала еще полнее и страшнее с тех пор, как блуждающий призрак проплыл, заступив ему путь.
Внезапно ощущение усталости и голода пронзило Титуса; и сразу же уверенность в том, что он спит, стала слабнуть. «Если я сплю, — подумал он, — зачем отталкиваться от земли? Почему бы просто не полететь?». И чтобы проверить эту мысль, он оставил усилия и следил лишь за тем, чтобы сохранять равновесие всякий раз, как удар о землю вновь поднимал его в долгий, фантастический перелет; однако импульс ослабевал, перелеты становились все более куцыми, и наконец полет Титуса прервался.
При этом сломе ритма вера Титуса в то, что он спит, развеялась полностью. Слишком настоятельным стало чувство голода.
Он огляделся. Все тот же лес облегал его мягкой своей циклорамой — ненавистным золотым сном.
Но при всем ужасе, вновь овладевшем Титусом, который уже не верил, что спит, испуг его отчасти умерялся странным волнением, казалось, не умалявшимся, но набиравшим силу, пока оно не обратилось в трепещущий под ребрами ледяной шар. Что-то, чего он подсознательно жаждал, не то явилось ему в золотистой дубраве само, не то явило свой символ. Осознав, что он не спал с той самой минуты, когда (как давно это было!) прокрался в конюшни Горменгаста, мальчик понял, что стройный дух — это схожее с тростинкой, с перышком нечто, взмывавшее с полуотвернутым лицом пологими вспорхами над широкой, как луг, прогалиной, — реален, и в этот самый миг находится с ним вместе в дубраве и, быть может, следит за ним.
Теперь не одна лишь сверхъестественность призрака влекла к себе Титуса, но и страстная потребность опять увидеть существо, столь несхожее со всем, чем был Горменгаст.
И все-таки — что же он видел? Описать сие он бы не смог. Все совершилось так быстро — этот пролет через поле его зрения, прерванный, так сказать, раньше, чем глаза его изготовились. Отвернутое лицо… отвернутое. Что же взывало к нему? Что олицетворяла эта малость, крохотная частица жизни? Ибо в выражении, с которым она прорезала пространство, присутствовало то качество, по которому бессознательно изнывал Титус. Долгими глиссадами золотистой осы она, точно вымысел, созданный в редкостной, изысканной атмосфере, коей и дуновения никогда не долетало до Титуса, выражала, взлетая над прогалиной, самую суть отчужденности: врожденную неприручаемость, дистиллированную, тающую красоту.
Все совершилось мгновенно. Посеяв смятение в уме и в сердце Титуса.
Что ощутил он, когда остановил в это утро лошадь и услышал голоса горы и лесов, чей клик: «Ты рискнешь?» — отзывался в нем эхом. Он увидел существо, живущее само по себе, не питающее уважения к древним властителям Горменгаста, к святости вековечного Рода, к ритуалам, творимым среди истертых ногами каменных плит. Существо, которому мысль о том, чтобы склониться перед семьдесят седьмым Графом, была столь же чужда, сколь птице или древесной ветви.
Титус ударил кулаком о ладонь. Страх охватил его. И волнение. Зубы его лязгали. Не изменился ли несколько свет, полого падающий на прогалины через кроны деревьев? Не менее ль мертвенной стала недвижность воздуха? Ибо на миг Титусу показалось, будто он услышал вздох в листве над своей головой. Не пахнуло ли некой жизнью оцепенение полуденного покоя?
Куда теперь повернуть, Титус не знал и узнать возможности не имел. Лишь знал, что не может возвратиться туда, откуда пришел. И потому зашагал так поспешно и легко, как мог (чтобы избавиться от разбуженного прыжками и привольными перелетами ощущения ночного кошмара), в ту сторону, где скрылось из виду загадочное, плывшее по воздуху существо.
Прошло не много времени, и ни на что не похожие, мшистые, тянущиеся меж дубов прогалины украсились купами папоротника, казавшимися в своем безразличии к солнечным лучам силуэтами: столь темны были эти обвислые иссиня-зеленые ветви, столь светозарен золотистый фон. Дух мальчика мгновенно воспрянул, и когда пышный ковер сменился жесткими стеблями и буйным обилием цветущих трав, когда — что подействовало на Титуса живительнее всего — даль избавилась от древнего наваждения дубов, коим бросили вызов полчища иных деревьев и порослей, когда последний из этих узловатых монархов отступил, и Титус очутился в окружении более свежем — тогда наконец кошмар отвязался и мальчик вернулся, лишним доказательством чего стал обуявший его голод, в ясный, определенный, реальный мир, который хорошо знал. Земля впереди весело шла под уклон. Как и на дальнем краю дубравы, здесь тоже были разбросаны скалы и папоротники; и Титус вскрикнул от счастья, увидев, после запустения и неизбывной безучастности золотистых прогалин, живую тварь, — лиса, который при звуке шагов Титуса пробудился от полуденного сна в тихом папоротниковом гнезде, с незаурядным самообладанием поднялся на ноги и ровно потрусил по склону прочь.
У подножия склона начинался орешник. То там, то тут серебристые березы выставляли из его листвы свои перистые головы или, подобные зеленой тени, возвышались под солнцем темно-зеленые падубы. Титус услышал голоса птиц. Чем бы утолить голод? Время диких плодов или ягод еще не настало. Он заблудился, заблудился напрочь, и веселое возбуждение, которое он ощутил, вырвавшись из дубравы, уже спадало, обращаясь в уныние, — но тут, пройдя орешником с четверть мили, Титус различил донесшийся с запада плеск воды; слабенький, но отчетливый. Снова побежал он — теперь уже в сторону прохладного звука, — но вскоре вынужден был опять перейти на шаг: ноги устали, отяжелели, земля была неровна, и местами ползучий плющ покрывал ее. Плеск воды мгновенно усилился, однако и падубов в орешнике стало попадаться все больше, и тени деревьев над Титусом и у ног его сгустились до сочной, темной, черноватой зелени. Вода уже громко пела в его ушах, но деревья сплотились настолько, что когда Титусу вдруг открылась слепящая ширь стремительной, испятнанной пеной реки, он испуганно вздрогнул, и в тот же миг из тени леса на другом берегу выступил человек.