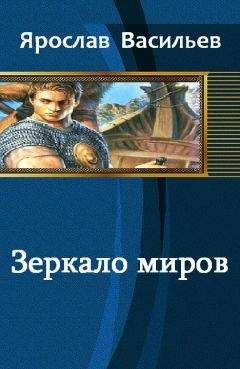Мервин Пик - Горменгаст
Подчиненные же его, перейдя осыпающуюся палату, проследовали гуськом по странно узкому и высокому коридору и наконец спустившись еще по одной лестнице — древней, орехового дерева — прошли коридором, за дальней дверью которого располагался их дворик.
Вот здесь, в общинном уединении их покоев, возбуждение, возраставшее с тех пор, как они покинули Залу Наставников, спало; зато на смену ему явилось возбуждение нового рода. Достигнув дворика, они окончательно осознали, что впереди у них — еще один привольный вечер. Чувство высвобождения исчезло, но ощущение более радостное убыстрило сердца и ноги профессоров. Им казалось, будто кишечники их наполнились водою. Большие комки стояли в горле каждого. Слезы блистали в уголках глаз.
Опоры сложенной из темного, золотисто-розового кирпича галереи светились (хоть она и лежала в тени) вдоль всего дворика. Над сводами галереи, футов на двадцать выше земли, тянулась по всему периметру сложенная из розоватого кирпича терраса; в глубине ее стену через равные промежутки прорезали двери профессорских жилищ. Каждую украшал, согласно обычаю, список прежних жильцов, завершавшийся именем нынешнего. Имена эти были с тщанием врезаны в черную древесину, вертикальные столбцы маленьких, но отчетливых букв почти заполняли все свободное место. Сами комнаты, тесные, одинаковой формы, рознились одна от другой так же, как рознились характеры их обитателей.
По возвращении домой каждый профессор первым делом входил к себе и сменял черную служебную мантию на темно-красную, вечернюю.
Плоские шапочки вешались снутри на двери или швырялись через комнату на какую-нибудь подсобную полку, а то и просто в угол. Именно этими полетами и объяснялась обвислость большинства из них. Брошенные правильным образом: из дверей, навстречу легкому сквозняку, они взвивались высоко в воздух, — донышком кверху, кисточки веют внизу, как обезьяньи хвосты. И когда сразу тридцать шапочек возносились над двором в солнечном свете, тут-то и воплощался в реальность ночной кошмар школяра.
Облачась в винно-красные мантии, профессора выходили обыкновенно из комнат на розоватый кирпич террасы и там, облокотясь на балюстраду, проводили наиприятнейшие из дневных часов, беседуя либо размышляя, пока вечерний гонг не сзывал их в трапезную.
Старому Дворнику зрелище это неизменно согревало сердце, когда он, окруженный со всех сторон мерцающими галереями и долгой чередой опирающихся локтями на балюстраду винно-красных профессоров вверху, облезлой метлой гнал перед собою по сочного тона кирпичам, устилающим двор, стадо взволнованных листьев.
В этот именно вечер, хотя ни единая шапочка обычного своего полета не совершила, профессора впали в состояние крайнего легкомыслия — в особенности под конец вечерней трапезы в Долгом Зале, трапезы, за которой высказывались бесчисленные догадки касательно сокровенных мотивов, побудивших Прюнскваллоров разослать приглашения. Наиболее фантастическую выдвинул Цветрез, и сводилась она к тому, что Ирма, коей понадобился муж, решила поискать его среди них. Услышав это, хамоватый Опус Трематод зашелся в приступе непристойного хохота и с такой силой треснул сырым окороком ручищи своей по длинному столу, что в воздух взвился целый corps de ballet[6] ножей, вилок и ложек, а две ножки стола подломились, и то, что еще уцелело от ужина девяти сидевших за этим столом профессоров, в самом причудливом беспорядке рассыпалось по полу. Тем, кто держал стаканы в руке, еще повезло, а вот те, чье вино оросило собою осколки посуды, на миг-другой впали в задумчивость, прежде чем общее настроение вечера вновь овладело ими.
Мысль, что кто-то из профессоров вдруг станет мужем, представлялась всем до нелепости смешной. Не то чтобы они считали себя недостойными этого, отнюдь. Просто подобного рода события принадлежали к другому миру.
— О да, Цветрез, о да, вы безусловно правы, — уверил его Сморчик, как только ему представилась возможность сказать хоть что-то и оказаться услышанным. — Мы с Йотом рассудили примерно в этом же духе.
— Именно, именно, — подтвердил Йот.
— В моем случае, — продолжал Сморчик, — сублимация довольно проста, ибо при всех тех орлах и скалах, которые я вижу во всяком треклятом сне, — а они донимают меня каждую ночь, не говоря уж об автоматическом письме, вполне выявляющем мою абсурдную любовь к Природе, — поскольку читая то, что я написал как бы в некоем трансе, я понимаю, как глупо пытаться объять мыслью природные феномены, кои, в сущности говоря, суть не что иное, как совокупленье случайностей… э-э-э… о чем бишь я?
— А какая, собственно, разница? — сказал Перч-Призм. — Суть дела в том, что мы приглашены: что все мы будем гостями, и главное: всем надлежит вести себя соответственно приличиям. Черт возьми! — провозгласил он, обозрев лица коллег, — куда было б лучше, если бы пригласили только меня.
Ударил колокол.
Профессора поднялись, как один человек. Настало время исполнить традиционный обряд. Перевернув длинные столы — а таковых имелось ровно двенадцать — кверху ножками, они уселись, один за другим, на исподы столешниц, как если бы столы были баркасами, а профессорам предстояло вот-вот отплыть на весельной тяге в некий сказочный океан.
На миг повисло молчание, затем снова ударил колокол. Эхо его не успело еще замереть в длинной трапезной, а уж двенадцать экипажей неподвижной флотилии возвысили голоса свои в невразумительном гимне давних времен, когда он, предположительно, нес в себе некий смысл. Ныне же гимн этот медленно и прерывисто плыл в тусклом свете, но никто из поющих не тщился как-то прикрыть звучавшую в их голосах скуку. Вечер за вечером они, с тех пор, как стали профессорами, выпевали эти строки, и пение это походило на похоронное, столь невыразительным было оно:
Он наш —
Древний свод
Вещих рун,
Дряхлый том,
В томе том
Истин сонм.
Скорбь веков
Велика.
Веры суть
Между строк
Не видна
Уж давно.
Скрип пера
Перетек
Через двух:
Плоть и дух,
В исток,
В день, где
Правит рок,
Где цветок
Не иссяк.
Для ветров
Дан Сын,
Для гробов
Дан дрозд.
И рожь,
Чтобы песнь
Избыть.
Ждет нож,
Ждет меч,
Чтобы жизнь
Пресечь,
Чтобы тех,
Кто тут,
Изгнать.
Древний свод
Забыть,
Измельчить
Во прах,
А прах
Попрать.
Он наш!
Глава девятнадцатая
Опушка леса, под высокими ветвями которого стоял Титус, выглядела тканым занавесом листвы, похожим более на зеленую стену, возведенную для какого-то сценического действа, чем на живую поросль. Состояло ли назначение ее, столь отвесной, столь плотной, в том, чтобы скрыть некую зарождавшуюся здесь драму? Или то был просто задник, на фоне которого давал представления некий бессмертный мим? Что было сценой, кто — зрителями? Ниоткуда ни звука.
Рывком разведя ветви, Титус пролез между ними и скользнул, извиваясь, в зеленую мглу; еще рывок — упираясь теперь ногами в огромный боковой корень. Роса остудила листья и мох. Помогая себе локтями, Титус протолкнулся вперед и обнаружил, что густое сплетение ветвей почти полностью преграждает ему путь; однако желание притиснуться лишь обострилось, поскольку одна из ветвей, откачнувшись назад, хлестнула его по щеке, — мгновенная боль заставила Титуса сражаться с мускулистыми ветками до тех пор, пока верхняя половина его тела не протиснулась в щель, которой ноющие его плечи не позволяли сомкнуться. Титус вытянул руки вперед, отметая листву от лица, и отдуваясь, восстанавливая дыхание, оглядел уходящее в ясную даль лесное ложе, подобное морю золотистого мха. На этом уходящем вверх просторе вставали, химерами снов наяву, призрачные скопления древних дубов. Подобные крапчатым богам, стояли они, каждый на собственном заповедном участке земли, широкие прогалины мха текли меж их зелеными и золотыми рядами, теряясь в ясной перспективе.
Когда дышать стало легче, Титус осознал безмолвие повисшей перед ним картины — подобия золотистого полотна с сотнями величавых дубов, витые ветви которых всё разделялись и разделялись, завершаясь позолоченными кончиками пальцев — крепкими желудями и глубокими ворохами легендарной листвы.
Сердце Титуса громко билось, а теплое дыхание тишины между тем обтекало его, поглощая.
Последнее усилие, рывок, освободивший его от последних цепких веток, и рука тернового дерева уродливыми пальцами содрала с Титуса куртку. Он оставил ее свисать с ветки, с длинных шипов, пронзивших ее, будто когти вурдалака.
Когда шум борений с ветками стих, и снова пало теплое неизбывное безмолвие, Титус ступил на мох. Мох оказался упругим, пружинистым, а золотистая поверхность его — на удивление плотной. Титус сделал еще шаг, высоко подняв ногу, а опустив ее, обнаружил, что нет ничего проще, нежели плавно перелиться в следующее движение. Эта почва была словно и создана для бега, ибо каждый шаг подбрасывал тело, понукая его сделать следующий. Скакнув вправо, Титус гигантскими прыжками понесся по темно-зеленому краю леса. На время восторг этих пролетов по воздуху поглотил его целиком, но едва новизна их начала приедаться, ее сменил всевозрастающий страх, ибо тянувшаяся справа сплошная завеса лесной закраины выглядела бесконечной, уходящей в неразличимую даль; а неподвижное, беззвучное свечение дубов и бескрайние мшистые просторы слева, казалось, не менялись ни на йоту, хоть мимо Титуса и проплывало одно дерево за другим.