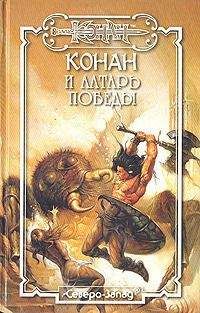Даниэл Уолмер - Чаша бессмертия
— Где ты его встречал, и не знаешь ли ты, в каком месте этот самый Конан пребывает сейчас? — спросил оборванец, лишь только варвар присел рядом с ним на сомнительной чистоты подстилку, предварительно отодвинув кувшин со змеей в сторону.
Как ни странно, в глазах его не было страха, к которому так привык Конан за последние дни. Возможно, причиной этому был мечтательный туман, застилавший зрачки и не дававший возможности рассмотреть как следует того, кто находится возле.
— Если ты скажешь мне, кто поручил задавать тебе такие вопросы, я, так и быть, отвечу, — сказал Конан.
— Охотно скажу! — добродушно кивнул оборванец. — Меня попросил об этом его давний приятель, с которым они не виделись много лет. Приятель этот долгое время путешествовал вместе с женой по морям и океанам, не задерживаясь подолгу ни в одном месте. Но вот уже два года, как странствия его окончились. Теперь он живет с женой и двумя детьми в Зингаре, не особенно далеко отсюда.
— И приятеля этого зовут Шумри! — воскликнул радостно Конан.
— Его зовут Кельберг, — поправил его музыкант. — Жену его зовут Илоис. Детей же, извини, не помню.
— Ну, да, Кельберг, это одно и то же! — Конан расхохотался и от избытка чувств потряс доброго вестника за плечо, чуть не разорвав и без того ветхую одежду. — И что же этот старый бродяга просил передать мне?..
— Тебе?..
— Ну да! Ведь я и есть тот самый Конан-киммериец. И если ты взглянешь на меня повнимательней, ты бесспорно меня узнаешь. Ведь Шумри, конечно же, назвал тебе мои основные приметы, из-за которых меня трудно с кем-нибудь перепутать!
— Да-да, назвал. — Вендиец вгляделся в своего собеседника. — Пожалуй, это и вправду ты, богатырь-Конан, воитель-Конан, Конан, повергающий в прах всех своих врагов…
По мере того как он всматривался в радостные черты варвара, туман в его глазах рассеивался, облака исчезли, а в расширившихся зрачках поселился страх. Тот самый, хорошо знакомый, обреченный страх, при виде которого киммерийцу захотелось хорошо выругаться.
— Клянусь Кромом! Я не съем тебя! Прекрати трястись, как затравленный собаками заяц! — взревел варвар.
Как и следовало ожидать, взрыв этот не успокоил вендийца, но вверг в еще большую панику.
— Да-да, Конан-воитель, конечно, — залепетал мечтательный музыкант. — Ваш друг Кельберг просил передать, если я где-нибудь и когда-нибудь вас встречу, что он окончил свои странствия. Теперь он оседлый человек, и у него есть свой дом, вернее, небольшой домишко в нескольких днях пути отсюда, на острове на реке Громовой, там, где впадает в нее река Ширка, вы без труда найдете, а если не найдете, спросите у местных жителей, его там хорошо знают, он вас очень ждет к себе в гости, очень-очень ждет, а мне пора, безмерно рад знакомству с вами, но мне надо торопиться… — Затравленный лепет его превратился в скороговорку.
Быстрые, как и язык его, руки в это время скатали подстилку, выдернув ее предварительно из-под киммерийца (при этом несчастный побледнел, должно быть, от ужасного предположения, что Конана жест этот может разгневать), затем, зажав под мышкой дудку и голубой кувшин, вендиец рванулся прочь, намереваясь как можно скорее затеряться в базарной толпе.
— Эй, погоди, приятель! — Конан ухватил его за плечо.
Музыкант зажмурился и присел под его рукой, ожидая чего-то невыносимо страшного. Пальцы его так тряслись, что случайно (а может, и не совсем случайно) сорвали круглую крышечку с горлышка кувшина. Синяя кобра тут же высунулась наружу и угрожающе раздула свой клобук. Конан отдернул руку и подался назад.
— Осади-ка свою подружку, — сказал он как мог спокойно. — Прикрой ее крышкой. Вот так… — Он внимательно следил, чтобы дрожащие пальцы как следует закупорили сосуд с рассерженной гадиной. — Я всего лишь хотел задать тебе несколько вопросов. Я не видел своего старого друга Кельберга десять лет и хотел бы услышать о нем хотя бы на два слова больше. Как он теперь? Каким путем оказался на острове? Счастлив ли он? Каким ветром занесло к нему на остров тебя, и отчего ему пришла такая замечательная идея: поручить тебе расспрашивать обо мне всех встречных?..
Вендиец вздохнул, затравленно огляделся вокруг и снова опустился на землю, уже без подстилки. Кувшин с коброй он прижимал обеими ладонями к груди, словно черпая силы от близости своей опасной подружки. Конан присел рядом и ободряюще похлопал его по спине, отчего несчастный дернулся и снова зажмурился.
— Хорошо, — покорно сказал он, не открывая глаз и отворачиваясь, чтобы не взглянуть ненароком в страшное лицо с пепельным оттенком кожи. — Я расскажу все, что ты хочешь услышать. Только не наклоняйся ко мне так близко и, умоляю тебя, не касайся меня, ибо твое дыхание леденит, а дружеские шлепки вколачивают в землю.
Конан отодвинулся, однако зорко следил, чтобы вендиец не вскочил и не растворился в толпе.
— Я шел из Аквилонии в Зингару вдоль правого берега реки Ширки, — начал музыкант. — В селениях, встречавшихся мне на пути, я давал свои представления, и хотя народ там небогатый, и денег мне никто не бросал, но зато меня кормили, а женщины чинили порвавшуюся одежду. Большего мне, впрочем, было и не нужно… Около трех лун назад я остановился в небольшой деревушке, расположенной в месте, где Ширка впадает в реку Громовую. Вечером, совершая свои ритуальные омовения в водах реки, я услышал прекрасную незнакомую музыку. Она доносилась со стороны скалистого острова локтях в пятистах впереди меня. Звуки были отчетливые и завораживающие. Прежде я никогда такого не слышал. Казалось, играют сами камни, сами деревья, сама река… Конечно же, я расспросил местных жителей. Они поведали мне, что играет один чудак и странник, года два назад поселившийся на острове вместе с женой и двумя детьми. Они были так любезны, что одолжили мне лодку и подсказали, как отыскать узкую тропинку в скалах. По ней я прошел сквозь заслон неприступных камней в зеленую плодоносящую долину, где стоит скромная хижина музыканта и его семьи. В этой долине я провел несколько поистине чудесных дней. Кельберг и его жена приняли меня с таким радушием, словно я был их старым другом. Дети их, чьих имен, к сожалению, я не помню, подружились с моей Чейей. — Вендиец ласково провел ладонью по изгибу голубого кувшина. — Надо сказать, ни один человек, кроме них, не осмеливался когда-либо гладить Чейю, кормить ее с рук и носить на шее, подобно живому синему ожерелью. Расставаясь с ней, они плакали. Многим прекрасным мелодиям научила меня лютня Кельберга… Мне жаль было покидать их. На прощанье Кельберг попросил меня, где бы я ни был, спрашивать у своих зрителей, не знают ли они Конана-киммерийца, что я и делаю в благодарность за добрые дни в его доме. Он просил передать, что ждет своего друга и побратима Конана в любое время. Если ему тяжело, если сумрачно, если светло и радостно и не с кем разделить эту радость… Вот, теперь я сказал все.