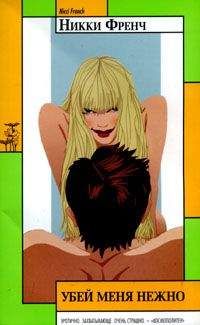Юлия Остапенко - Лютый остров
И только я один, казалось, замечал, что черная тень Салхан-горы, веками на море лежавшая, бледнела и укорачивалась с каждым днем.
Бытовать тоже труднее стало. Как прекратились налеты, а торговля еще не наладилась, шла, по старой памяти, вяло, – так пришлось пояса подтянуть. Когда угомонились бывшие каторжане, поделили кое-как с городскими своих жен и детей, стало ясно, что жилья на всех теперь не хватает. Поселение у рудника пустовало, да только возвращаться туда никто охоты не имел. Стали селиться в одной избе по нескольку семей; ругались опять, ссорились, бывало, что и за ножи хватались. Кнежий двор гудел точно улей. Дружина, стесненная нынче в средствах так, как прежде и не чаяла, снова раскололась, снова затеялся бунт – и снова его подавили. Твердо стоял на земле своей Среблян, обеими ногами стоял. В те смутные, неверные дни он снова переменился. Снова плечи его распрямились, глаза горели не прежним больным блеском, а так, как в тот день, когда я впервые его встретил. Надежда проснулась в нем снова. И видел я: не жалеет он, что мне поверил.
Тоже, видать, понял, в чем был подвох.
Ясенка тем временем совсем выздоровела. Я, правду сказать, побаивался немного встреч с ней, но она мне улыбалась, как брату родному, ничего не спрашивала, ни о чем не просила. Меня совесть мучила: не хотелось девке сердце разбивать. Но вроде бы ничего, обошлось как-то. Я видел – любо ей то, что стал делать ее отец. И хотя пришлось ему продать нарядные платья ее и каменья, которыми прежде баловал, и не было никакой надежды, что скоро добудет новые, – а не похоже, чтобы это ее печалило. Было время – я подумывал даже, не взять ли ее второй женой. Правда, помыслить страшился, что на то скажет моя Счастлива, и все же... А после приметил – Ясенка стала поглядывать на одного парня, с каторги возвратившегося, а ныне вошедшего в дружину Сребляна. Улыбалась ему, да и он на нее глядел ласково. Тут уж я вздохнул – ну и пусть их, храни ее Радо-матерь.
А сам я, что ж... в тот день тяжкий, как домой воротился, Счастлива меня не встретила. Я ее в дальней горнице нашел: сидела в углу, зареванная вся, а глаза злющие – только тронь! Я тронул, не побоялся. За плечи ее обнял, сказал: «Ну, почто злишься, глупая? Тебя люблю...» Она аж вскинулась, и тогда только дошло до меня, что никогда прежде я ей этого не говорил. И почему?..
Отец ее, Береста, как вернулся с рудников и все утряслось, стал у нас жить. Надломил его тот год, что он в шахте провел, – хворать он стал сильно, ноги ему то и дело отказывали. А меня, как и прежде, не любил. Оно и понятно – не для такого, как я, сопляка злого, дочку-красавицу берег. Ну уж как вышло, так вышло... Я ему сильно в ответ не рыкал, так, мимо ушей пропускал. Мамкину брань всю жизнь терпел – что ж тестя не потерпеть?
Еще из наших наладилось у Ольховичей. Они всей семьей на Салхан попали: самого Ольху, вестимо, сослали на рудник, жену его силой взял Среблянов дружинник Лось, а детей у нее отняли и раскидали по разным семьям. Когда дружина раскололась, Лось на сторону бунтовщиков встал, потом в сече полег. Осталась вдовой Ольховиха – а тут и прежний муж подоспел, утешил. Я сам видал, как они потом по дворам бродили, в каждый дом заглядывали, детишек своих искали. Повезло – все попали к незлым людям, все согласились, что с настоящими родителями малым лучше будет. Как Дарко Ольхович ревел! Ну ревел – эхо стояло меж скал! Мал был еще, как ни крути, что с него взять.
А вот у малой Пастрюковны так и не нашлось никого. Мать еще в пути на Салхан в трюме померла, отца за год на руднике уморили, старшая сестрица, затосковав, руки на себя наложила. А малая Пастрюковна знай себе бегает и хохочет. Смешливая росла, никакой не хотела ведать беды. Новые родители так и назвали ее – Смешинкой. Вроде любили.
И сколько других еще было: Кожевичи, Сосновичи, Вороновичи... и много, много прочих, кто был не моего племени и кого я ни в лицо, ни по имени не знал. У кого-то наладилось, у кого-то нет. Но кто погиб – тот либо сам такую долю выбрал, либо знал, за что помирает. То уже было лучше, чем участь, накликанная далгантам Янь-Горыней.
Мне-то, правду сказать, легче пришлось, чем остальным. Некому мне уже было зло прощать – всем, кому должен был, я помстился. Оставалась малость – мною же причиненное зло отмаливать. Повинился я перед Счастливой за измену, за то, что в ту ненастную ночь сказал Ясенке. Зазноба моя норова не сдержала – рожу мне расцарапала. Ходил я неделю хмурый – собратья мои по дружине пальцами тыкали, ухохатывались. Потом простила. К жене Могуты сходил, той, что над ним плакала. Она к тому времени нового мужа себе взяла – бывшего каторжанина, из одного с нею села. Она ласково приняла меня, сказала, что зла не держит. Еще я ходил в дом к Тяготе. Были у него приемные родители, взяли его, когда попал он на Салхан несмышленышем, как родного растили. Те слушали молча. Отец его ничего не ответил, а мать сказала только: «Иди себе с миром». Я и ушел.
Другие еще были... ну да про всех поминать не буду. А только кажется, что целый год только и делал, что ходил и винился. И передо мной ходили винились. Хрум приходил. Мы с ним в корчме браги вместе выпили, надрались так – ноги не держали. Он меня потом до дому еле дотащил, я на пороге так и лег. Счастлива ругалась, Береста головой качал: выбрала в мужья пьянчугу, ничего не скажешь, выросла разумница!
А еще я часто думал про Ивку. Как тут повинишься, перед кем, когда даже праха не осталось? Просто думал. И теперь иногда думаю, до сих пор.
Так вот и жили... дивно то было, но всяко не более дивно, чем житье, которое вели далганты последние два с половиной века.
А как пришла весна, вышел в море первый торговый корабль неродов. Не для грабежа вышел, не для лиха – для доброй торговли. Кнеж меня на сей раз взял с собой – сказал: ты ничего не делай, только рядом стой, чтобы я вдруг не забыл, зачем в море иду, не взялся по привычке за старое. Говорил, а глаза смеялись. Научились опять смеяться кнежьи глаза... Правда, потом, как дошли до фарийцев, – не до смеху стало. Серебра у нас теперь было меньше, ртов больше, а в добрые помыслы наши купцы не особенно верили. Да и разве можно их в том упрекнуть? Туго шла торговля... а кто говорил, что легко пойдет?
Началом это было, самым только началом долгого-предолгого пути.
Как вернулись назад, узнали, что помер дед Смеян. В городе никто и не знал, а приметили – перестал выходить поутру дрова колоть. Думали, занемог, да все забегались – никто не зашел... В конце концов забежал Дарко Ольхович глянуть. И нашел деда сидящим у очага, опиравшимся на свою клюку, мертвым уже несколько дней. Гусли его с ним рядом на скамье лежали. Дарко сказал, улыбался дед. Спокойно улыбался, радостно. Будто сбросил тяжкий груз с давно утомившихся плеч. Я пожалел, что так и не удосужился к нему зайти – повиниться за грубости и ему сказать: прощаю тебе, дед, то, что Счастливу мою кнежу на суд выдал. Теперь понимаю – правильно он тогда поступил, да и не умел иначе. Неродом ведь был, как и мы все.