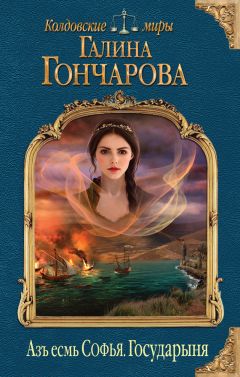Анджей Сапковский - Башня шутов
– Харетиков, – пояснил, поворачиваясь, мужчина с внешностью попрошайки. – Схватили харетиков. Говорят, гусов или чегой-то вроде того…
– Не гусов, а гусонов, – поправил с таким же польским акцентом другой оборванец. – Жечь их будут за святотатство. Потому как гусей причащали.
– Эх, темнота! – прокомментировал стоящий по другую сторону телеги странник с нашитыми на плаще завитушками.[114] – Ну, ничего же не знают. Ничего!
– А ты знаешь?
– Знаю. Хвала Иисусу Христу! – Странник заметил тонзуру плебана Гранчишека. – Еретики зовутся гуситами, а берется это от ихного пророка Гуса, а вовсе не от каких ни гусей. Они, гуситы, значицца, говорят, что чистилища вовсе нету, а причастие принимают обоими способами, то есть sub utraque specie.[115] Потому и называют их утраквистами.[116]
– Не учи нас, – прервал Урбан Горн, – мы и без того ученые. Этих троих, спрашиваю, за что палить будут?
– Ну, этого-то я не знаю. Я нездешний.
– Вон тот, – поспешил разъяснить какой-то здешний, судя по испачканному глиной фартуку, каменщик. – Тот в позорном колпаке – чех, гуситский посланец, поп-отступник. Из Табора переодевшись пришлепал, людей на бунт подбивал, церкви жечь. Его признали собственные же родаки, те, что после двенадцатого года из Праги удрали. А второй – Антоний Нэльке, учитель приходской школы. Здешний сообщник чеха-еретика. Укрытие ему давал и с ним еретические писания распространял.
– А женщина?
– Эльжбета Эрлихова. Она совсем из другой, как говорится, бочки. По случаю. За компанию. Мужа свово, с любовником стакнувшись, ядом отравила. Любовник сбежал. Если б не это, тожить бы на костер взошел.
– Вылезло ноне шило из мешка, – вставил тощий тип в фетровой шапке, плотно обтягивающей череп. – Потому как это ее второй муж, Эрлиховой-то. Первого небось тоже отравила, ведьма.
– Может, отравила, может, и не отравила, тут бабка надвое сказала, – присоединилась к диспуту толстая горожанка в расшитом полукожушке. – Говорят, тот, первый, вусмерть запил. Сапожник был.
– Сапожник – не сапожник, отравила она его как пить дать, – припечатал тощий. – Не иначе там и чары какие-никакие в дело пошли, ежели под доминиканский суд попала…
– Коли отравила, то и получила за дело свое.
– Верно, что получила.
– Погодьте, – крикнул, вытягивая шею, плебан Гранчишек. – Приговор княжий читают, а не слышно ничего.
– А зачем слышать-то? – съехидничал Урбан Горн. – И так все известно. Те, что на кострах, это haeretica pessimi et notirii.[117] А Церковь, которая кровью брезгает, передает наказание виновных на brachium saeculare, светским властям.
– Помолчите, сказал я!
– Ecclesia поп sitit sanguinem[118], – долетел со стороны костров прерываемый ветром и прибиваемый гулом толпы голос. – Церковь не желает крови и отвращается от нее… Так пусть же осуждение и наказание перейдет в руки brachium saeculare, светской власти. Requiem aeternam dona eis…[119]
Толпа взревела. У костров что-то происходило. Палач был уже рядом с женщиной, что-то проделал у нее за спиной, как бы поправлял накинутую на шею петлю. Голова женщины мягко, как подрезанный цветок, упала на грудь.
– Он ее удушил, – тихо вздохнул плебан, совсем так, словно прежде ничего подобного не видел. – Шею ей переломил. Тому учителю тоже. Они, видимо, на следствии раскаялись.
– И кого-нибудь завалили, – добавил Урбан Горн. – Нормальное дело.
Толпа выла и сквернословила, недовольная милостью, оказанной учителю и отравительнице. Крик усилился, когда вязанки хвороста полыхнули синим пламенем, полыхнули бурно, мгновенно охватив костры вместе со столбами и привязанными к ним людьми. Огонь загудел, взвился высоко, толпа, охваченная жаром, попятилась, теснота стала еще больше.
– Портачи! – крикнул каменщик. – Говенная работа! Сухой взяли хворост, сухой! Как солома!
– Воистину портачи, – согласился тощий в фетровой шапке. – Гусит и звука издать не успел! Не умеют они палить. Вот у нас, во Франконии, аббат из Фульды, ого, вон тот умеет! Сам за кострами присматривал. Бревна укладывать велел так, чтобы вначале они только ноги поджаривали до колен, потом выше, до яиц, а потом…
– Вор! – тонко взвыла скрытая в толкучке женщина. – Воооор! Лови вора!
Где-то посреди толпы плакал ребенок, кто-то наигрывал на дудке, кто-то всех обзывал курвами, кто-то смеялся, заливался нервным, кретинским смехом.
Костры гудели, били сильными порывами жара. Ветер повернул в сторону путников, донося отвратительный, удушливый, сладковатый запах горящего трупа. Рейневан прикрыл нос рукавом. Плебан Гранчишек поперхнулся. Дорота зашлась кашлем. Урбан Горн сплюнул, немилосердно скривившись. Однако всех превзошел рабби Хирам. Еврей высунулся с телеги, и его столь же неожиданно, сколь и обильно вырвало – на паломника, на каменщика, на горожанку, на франконца и на всех других, оказавшихся поблизости. Вокруг телеги тут же сделалось просторно.
– Прошу прощения… – сумел пробормотать рабби между очередными пароксизмами. – Это не политическая демонстрация. Это обыкновенная рвота…
Каноник Отто Беесс, препозит у Святого Яна Крестителя, уселся поудобнее, поправил пелеус[120], взглянул на колышущийся в бокале кларет.
– Убедительно прошу, – сказал он своим обычным скрипучим голосом, – присмотреть, чтобы тщательно очистили и обработали граблями кострище. Все остатки, даже самые малые, прошу собрать и высыпать в реку. Ибо множатся случаи, когда люди подбирают обуглившиеся косточки. И сохраняют как реликвии. Прошу уважаемых советников позаботиться об этом. А братьев – присмотреть за выполнением.
Присутствующие в комнате замка стшелинские советники молча поклонились, доминиканцы и Меньшие Братья наклонили тонзуры. И те, и другие знали, что каноник привык просить, а не приказывать. Знали также, что разница только в самом слове.
– Братьев Проповедников, – продолжал Отто Беесс, – прошу и дальше в соответствии с указаниями буллы Inter cunctas[121] чутко следить за всеми проявлениями еретичества и деятельностью таборитских эмиссаров. И докладывать о малейших, даже, казалось бы, незначительных явлениях, с подобной деятельностью связанных. В этом я также рассчитываю на помощь светских властей. О чем прошу вас, благородный господин Генрик.
Генрик Райденбург наклонил голову, но едва-едва, после чего сразу же выпрямил свою крупную фигуру в украшенном шашечницей вапенроке.[122] Староста Стшелина не скрывал честолюбия и надменности, даже не думал прикидываться смиренным и покорным. Было видно, что посещение церковного иерарха он терпит, поскольку вынужден, но только и ждет, чтобы каноник поскорее убрался с его территории.

![Анджей Сапковский - Божьи воины [Башня шутов. Божьи воины. Свет вечный]](/uploads/posts/books/54727/54727.jpg)