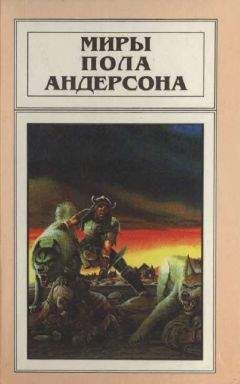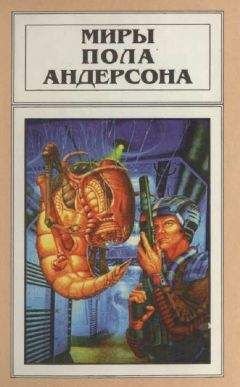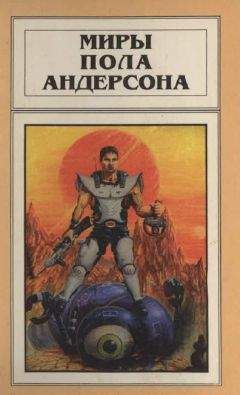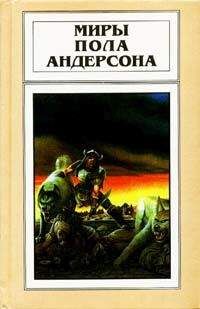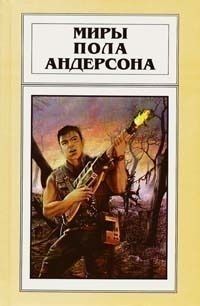Урсула Ле Гуин - Пересадка
С Теннго и Аннупом я никогда не чувствовала неловкости, хотя это ощущение довольно часто возникало у меня во время разговоров со взрослыми людьми: мне начинало казаться, что я совершенно не понимаю, о чем они говорят, что между нами вдруг возникла огромная пропасть, некий бесконечный разрыв в континууме восприятия. Сперва я винила в этом свое плохое знание языка хеннебет, но оказалось, что все далеко не так просто. В нашем взаимопонимании действительно возникали некие провалы, и мои друзья хеннебет вдруг оказывались по одну сторону пропасти, а я — по другую, и докричаться друг до друга не было ни малейшей возможности. Особенно часто это случалось во время моих бесед со старой миссис Таттавой. Начинали-то мы замечательно. Болтали о погоде, о новостях, о ее новой вышивке, и вдруг ни с того ни с сего, прямо посреди самой обычной фразы, возникал непреодолимый языковый барьер.
— Я считаю, что стебельчатый шов отлично подходит для рисунков необычной формы, — говорила она, например, — но до чего же трудно оказалось изобразить целое здание с помощью таких вот маленьких «стебельков»! Я уж думала, мы никогда его не закончим!
— Что же это было за здание? — на всякий случай спрашивала я.
— Хали тьютив, — отвечала она, аккуратно вытягивая нитку.
Я слова «тьютив» никогда прежде не слышала. Мой трансломат перевел его как «святилище, святыня», но для слова «хали» он вообще никакого значения подобрать не смог. Я пошла в библиотеку и поискала его в «Энциклопедии мира Хеннебет». «Хали, — говорилось там, — это некий обряд, существовавший у населения полуострова Эббо примерно тысячу лет назад; данный обряд сопровождался также ритуальным танцем «халихали». В общем, я мало что поняла.
В другой раз миссис Таттава стояла на средней ступеньке лестницы, когда я проходила мимо. Я поздоровалась, и она восхищенно воскликнула:
— Вы только представьте себе, как их много!
— Много чего? — осторожно спросила я.
— Шагов! — улыбнулась она. — Один за другим, один за другим. Ах, какой танец! Ах, какой долгий прекрасный танец!
После нескольких подобных случаев я напрямик спросила миссис Наннатулу, нет ли у миссис Таттавы проблем с памятью. Миссис Наннатула, рубившая на доске зелень для тунум поа, засмеялась и сказала:
— О, просто она не совсем здесь. Но никакого склероза у нее нет!
Я пробормотала нечто невразумительное, типа «как жаль!», и моя хозяйка посмотрела на меня с легким недоумением, однако с улыбкой продолжила свою мысль:
— Она говорит, что мы с ней подходим друг другу, точно супруги в браке! Я обожаю с ней разговаривать. Это большая честь — иметь в доме такую аббу, а вам так не кажется? Нет, мне действительно очень повезло!
Что такое «абба», я знала: это был вечнозеленый кустарник, терпкие ягоды которого были немного похожи на ягоды можжевельника, и мы использовали их для приготовления некоторых кушаний. На заднем дворе у миссис Наннатулы рос куст аббы, а на полке в кухне стоял небольшой кувшинчик с сушеными ягодами. Но больше никакой аббы я вроде бы в доме не замечала.
Некоторое время я размышляла насчет той «святыни хали», о которой упомянула миссис Таттава. Я не видела ни одного святилища во всем мире Хеннебет, за исключением крошечной ниши в гостиной, где миссис Наннатула всегда держала маленький букетик цветов, или пучок тростника, или — вы только подумайте! — несколько веточек пресловутой аббы. Когда я спросила, есть ли у этой ниши название, она сказала: да, «тыотив».
Набравшись смелости, я спросила у миссис Таттавы:
— А где находится «хали тыотив»?
Некоторое время она молчала, потом наконец, глядя куда-то вдаль, промолвила:
— О, в наши дни это очень, очень далеко… — Потом взгляд ее прояснился, она повернулась ко мне и спросила: — А вы там бывали?
— Нет.
— Трудно быть в этом уверенной, — заметила она. — Вы знаете, я теперь никогда не говорю, что я где-то точно не была, потому что очень часто оказывается, что как раз там я и нахожусь — или находилась, так, пожалуй, было бы точнее, не правда ли? Вы знаете, там очень красиво, но это так далеко!.. А теперь это оказалось прямо здесь, совсем близко! — Она посмотрела на меня с такой искренней радостью, что и я не могла сдержать улыбку и тоже почему-то почувствовала себя счастливой, хоть и не поняла ни слова из того, что она имела в виду.
И тут-то я и начала действительно замечать, что люди вокруг — и в «моем» доме, и во всем мире Хеннебет — гораздо меньше похожи на меня, чем мне это казалось. Это было связано с темпераментом, с типом характера. Они были очень умеренные во всем, как бывает умеренным климат. И отлично владели собой, никогда не раздражались по пустякам, всегда пребывая в хорошем настроении. И это была не некая воспитанная добродетель, не этическая победа над собой; нет, хеннебет просто были очень доброжелательными и спокойными людьми. И весьма отличными от меня.
Мистер Баттанеле всегда рассуждал о политике с удовольствием, даже со смаком, энергично, явно заинтересованный той или иной проблемой, но мне казалось, что в этих рассуждениях все же чего-то не хватает, какой-то составляющей, которую я привыкла считать весьма существенной для бесед о политике. Мистер Баттанеле не растекался мыслью по древу, как это делают люди не слишком умные и умелые, пытаясь адаптировать свои мысли к восприятию собеседника, но никогда, похоже, и не защищал какую-то лично свою точку зрения. Все поднятые им вопросы как бы оставались открытыми. Он бы самым прискорбным образом провалился, ведя, скажем, ток-шоу на радио или какой-нибудь «круглый стол» на ТВ. Ему не хватало, так сказать, напора, умения «надавить» на собеседника. Да и собственных убеждений у него, похоже, не было. А были ли у него вообще какие-либо конкретные мнения?
Я частенько ходила с ним вместе в пивную на углу и слушала, как он обсуждает основы политики со своими друзьями, из которых кое-кто служил в правительственных комитетах. Все они внимательно слушали друг друга, обдумывали собственный ответ, прежде чем высказаться, часто весьма живо и возбужденно, даже перебивая друг друга, отстаивали свою точку зрения, но их спорам, я бы сказала, не хватало страстности; они никогда не сердились и не выходили из себя. Никто никогда и ни с кем не вступал в противоречия — даже столь скромным способом выражения своего несогласия с чем-то, как молчание. И тем не менее, они, похоже, отнюдь не пытались избежать споров, или свести свои идеи к некоей конформистской норме, или выработать некий консенсус. Но более всего меня озадачивало то, что все эти бурные политические дискуссии внезапно как бы растворялись в смехе. Кто-то начинал тихо хихикать, кто-то разражался утробным хохотом, а потом и вся компания хваталась за животы, задыхаясь от смеха и вытирая глаза, словно они только что не обсуждали, как лучше управлять страной, а рассказывали друг другу смешные анекдоты. Но мне так ни разу не удалось уловить смысл той или иной шутки, вызвавшей приступ всеобщего хохота.