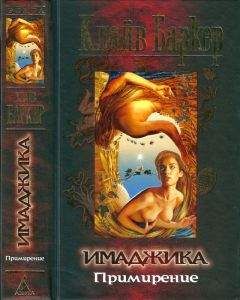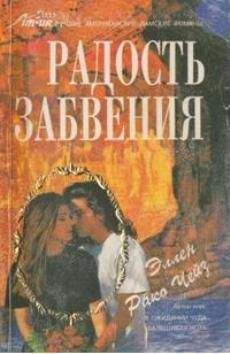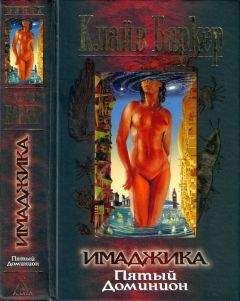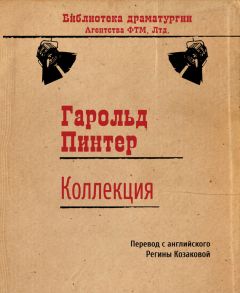Клайв Баркер - Имаджика
– Держитесь поближе ко мне, – посоветовал Чэнт. – Идите быстро и не оглядывайтесь по сторонам. Они не любят непрошеных гостей.
– А что этот ваш человек здесь делает? – спросил Эстабрук. – Он что, в бегах?
– Вы сказали, что вам нужен человек, которого невозможно выследить. Невидимка, так вы назвали его. Пай тот человек, который вам нужен. Он не занесен ни в какие списки. Ни полиции, ни службы общественной безопасности. Даже факт его рождения не был зарегистрирован.
– По-моему, это просто невозможно.
– Невозможное – мой конек, – ответил Чэнт.
До этого обмена репликами Эстабрук не обращал никакого внимания на свирепое выражение в глазах Чэнта, но теперь оно смутило его и заставило опустить взгляд. Разумеется, это чистой воды обман. Интересно, кто это умудрился бы дожить до зрелого возраста и ни разу не попасть ни в один документ? Но даже мысль о встрече с человеком, считавшим себя невидимкой, взволновала Эстабрука. Он кивнул Чэнту, и вдвоем они продолжили свой путь по плохо освещенной и замусоренной площадке.
Повсюду были навалены груды мусора: остовы проржавевших машин, горы гниющих отбросов, вонь которых не мог смягчить даже холод, бесчисленные кострища. Появление чужаков привлекло некоторое внимание. Привязанная собака, в крови которой смешалось больше пород, чем было шерстинок у нее на спине, бешено залаяла на них. В нескольких фургонах подошедшие к окнам темные фигуры опустили шторы. Сидевшие у костра две девочки, совсем недавно перешагнувшие рубеж детства, с такими длинными и светлыми волосами, словно их крестили в золотой купели (странно было встретить такую красоту в таком месте), вскочили на ноги. Одна из них тут же убежала, словно для того, чтобы предупредить людей, охранявших лагерь, а другая посмотрела на чужаков с полуангельской-полуидиотской улыбкой.
– Не смотрите, – напомнил Чэнт, быстро проходя дальше, но Эстабрук не смог оторвать взгляд.
Дверь одного из фургонов открылась, и оттуда в сопровождении светловолосой девочки появился альбинос с жуткими белыми патлами. Увидев незнакомцев, он испустил крик и двинулся к ним. Еще две двери распахнулись, и новые люди вышли из своих фургонов, но Эстабруку не пришлось разглядеть их и установить, вооружены ли они, потому что Чэнт снова сказал:
– Идите вперед, не оглядываясь. Мы направляемся к фургону с нарисованным на нем солнцем. Видите его?
– Вижу.
Надо было пройти еще ярдов двадцать. Альбинос извергал из себя поток распоряжений, хотя и бессвязных в большинстве своем, но несомненно направленных на то, чтобы задержать их. Эстабрук скосил взгляд на Чэнта, взгляд которого застыл на цели их путешествия, а зубы были плотно сжаты. Звук шагов у них за спиной стал громче. В любую секунду их могли стукнуть по голове или пырнуть ножом под ребра.
– Не дойдем, – сказал Эстабрук.
За десять ярдов до фургона (альбинос почти догнал их) дверь впереди открылась, и оттуда выглянула женщина в халате с грудным ребенком на руках. Она была маленького роста и выглядела такой хрупкой, что было удивительно, как это ей удается удерживать ребенка, который, почувствовав холод, немедленно завопил. Пронзительность его плача побудила их преследователей к действию. Альбинос мертвой хваткой взял Эстабрука за плечо и остановил его. Чэнт – трусливая скотина! – ни на мгновение не замедлив свой шаг, продолжал быстро идти к фургону, в то время как альбинос развернул Эстабрука к себе лицом. Изъеденные оспой и покрытые струпьями лица людей, которые в два счета могли бы выпустить ему кишки, представляли собой абсолютно кошмарное зрелище. Пока альбинос держал его, другой человек со сверкающими во рту золотыми коронками шагнул к Эстабруку и распахнул его пальто, а потом опустошил его карманы с быстротой заправского фокусника. И дело было не только в профессионализме. Они старались успеть, пока их не остановят. В тот момент, когда рука вора выудила из кармана Эстабрука бумажник, голос, раздавшийся из фургона за его спиной, произнес:
– Отпустите его. Он настоящий.
Что бы ни значила последняя фраза, приказ был немедленно выполнен, но к тому времени вор уже успел вытрясти содержимое бумажника в свой карман и шагнул назад с поднятыми руками, показывая, что в них ничего нет. И несмотря на то обстоятельство, что говоривший (вполне возможно, это и был Пай) взял гостя под свое покровительство, едва ли было благоразумно пытаться вернуть бумажник назад. После того как Эстабрук вырвался из рук воров, и поступь и бумажник его стали легче; но уже сам факт освобождения доставил ему несказанную радость.
Обернувшись, он увидел Чэнта у открытой двери. Женщина, ребенок и его неведомый спаситель уже вернулись внутрь фургона.
– Вам не причинили никакого вреда? – спросил Чэнт.
Эстабрук бросил взгляд через плечо на вспыхнувшую в костре новую порцию хвороста, при свете которого, по всей видимости, должен был происходить дележ награбленного.
– Нет, – сказал он. – Но вам лучше пойти и присмотреть за машиной, а то ее разграбят.
– Сначала я хотел представить вас...
– Присмотрите за машиной, – сказал Эстабрук, получая некоторое удовлетворение при мысли о том, что посылает Чэнта обратно. – Я и сам могу представиться.
Чэнт ушел, и Эстабрук поднялся по ступенькам внутрь фургона. Его встретили звук и запах – и тот и другой были приятными. Кто-то недавно чистил здесь апельсины, и воздух был наполнен эфирными маслами и, кроме того, звуками исполняемой на гитаре колыбельной. Игравший на гитаре чернокожий сидел в самом дальнем углу фургона рядом со спящим ребенком. По другую сторону от него в скромной колыбельке тихо лепетал грудной младенец, подняв вверх свои толстенькие ручки, словно желая поймать в воздухе музыку своими крошечными пальчиками. Женщина была у стола в другом конце фургона и убирала апельсиновые корки. Та тщательность, с которой она предавалась этому занятию, проявлялась во всей обстановке: каждый квадратный сантиметр фургона был убран и отполирован до блеска.
– Вы, наверное, Пай, – сказал Эстабрук.
– Закройте, пожалуйста, дверь, – сказал человек с гитарой. Эстабрук повиновался. – А теперь садитесь. Тереза? Что-нибудь для джентльмена. Вы, должно быть, продрогли.
Поставленная перед ним фарфоровая чашка бренди показалась ему божественным нектаром. Он осушил ее в два глотка, и Тереза немедленно наполнила ее снова. Он снова выпил ее в том же темпе, и вновь перед ним возникла новая порция. К тому времени, когда Пай уже усыпил обоих детей своей колыбельной и сел за стол рядом с гостем, в голове у Эстабрука приятно загудело.
За всю свою жизнь Эстабрук знал по имени только двух чернокожих. Один из них был менеджером предприятия, производившего кафель, а второй был коллегой его брата. Ни один из этих двух людей не вызывал у него желания познакомиться с ними поближе. Он принадлежал к людям того возраста и социального положения, у которых все еще частенько случались рецидивы колониализма, особенно в два часа ночи, и то обстоятельство, что в жилах этого человека текла черная кровь (и, как ему показалось, далеко не она одна), было еще одним доводом против выбора Чэнта. И тем не менее – возможно, причиной тому было бренди – он заинтересовался сидевшим напротив него парнем. Лицо Пая ничем не походило на лицо убийцы. Оно было не бесстрастным, но, напротив, болезненно чувствительным и даже (хотя Эстабрук никогда не осмелился бы признаться в этом вслух) красивым. Высокие скулы, полные губы, тяжелые веки. Его волосы, в которых черные пряди смешались с белыми, с итальянской пышностью ниспадали на плечи спутанными колечками. Он выглядел старше, чем можно было ожидать, учитывая возраст его детей. Возможно, ему было не больше тридцати, но сквозь обожженную сепию его кожи, на которой оставили свои следы всевозможные излишества, явственно проступали болезненные радужные пятна, словно в его клетках содержалась примесь ртути. Точнее определить было трудно, в особенности, когда в глазах плещется бренди, а малейшее движение головы рассылает мягкие волны по всему телу, и пена этих волн проступает сквозь кожу такими цветами, о существовании которых Эстабрук и не подозревал.