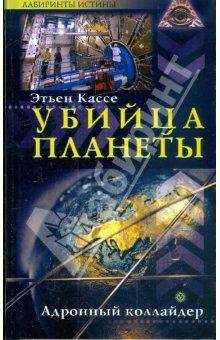Лея Любомирская - Живые и прочие
Анна в профиль — это высокий лоб, темный завиток, по виску бегущий за ухо, нос с горбинкой, крупные красивые губы, чуть тяжеловатый подбородок, крошечное, как из слоновой кости вырезанное ухо. И темно-красная капелька на мочке, словно укололи иглой и выступила кровь. Будто третий глаз или родинка — зацепишься взглядом и не знаешь, куда деваться. Снимет — и будет совсем уже не та Анна.
Оленька страшно обрадовалась, когда представила себе Анну без яшмовых сережек — и та исчезла. Лопнула, как мыльный пузырь.
Это всегда трудно. Человека приходится долго и внимательно раздевать — мысленно, конечно. Снимать или отнимать по одной вещи и смотреть, останется ли он целым. У Шурика это были очки — о счастье! — в пластмассовой оправе. Их и украсть было легче легкого, потому что Шурик рассеянный. У Светки — дорогущий итальянский ежедневник в кожаной обложке. Светка всегда сидит сутулая, пишет и прикрывает написанное ладошкой. Надо отдать Оленьке должное: украв ежедневник, она не заглянула внутрь. Ей было неинтересно. У придурка Караулова — стеклянный голубой глаз размером с голубиное яйцо, турецкий мегасувенир на латунной булавке, которым он закалывал то свой драный полосатый шарф, то ворот шерстяной кофты. Караулов думал, что это называется «быть панком», но Оленька панка от придурка может отличить с первого взгляда. Поэтому стащила булавку на физкультуре и ни секунды не мучилась совестью.
У Татьяны Олеговны, которая оставалась целой, сколько ее ни раздевай, но была чудо как хороша сама по себе, Оленька ночью в гостинице отрезала прядь волос. Не какую попало, а с умыслом: не черную с проседью, а нежно тронутую гранатовой краской, идущую от середины лба к макушке. Татьяна Олеговна, проснувшись и протрезвев, ругалась страшным матом, плакала и обещала всем мальчикам вместо зачета — автомат и кирзовые сапоги. Девочки почему-то оказались вне подозрений.
Прядь волос Оленька сожгла в фаянсовой чашке и высыпала пепел в пузырек из-под аскорбинки. Ежедневник тоже сожгла, но не дома, а на пустыре, в кастрюльке; не спичками, а газовой горелкой. Палила угли, пока не побелели и не рассыпались. Кастрюлю пришлось выкинуть, а порошок занял два спичечных коробка. Стеклянный глаз завернула в клеенку и стукнула молотком, а потом долго толкла потускневшую голубую крошку в стальной ступке. Очки Шурика сначала расплавила; стекла, которые было бы жалко выкинуть — они же главное, — тоже оказались пластиковыми. Желто-серый твердый ком повторил судьбу стеклянного глаза, а порошок вышел двуцветным: почти охра — от стекол, почти умбра — с оправы.
А вот с серьгой было совсем плохо.
Коля, который врет, что инженер, а на самом деле слесарь, согласился помочь за банку джин-тоника, один противный скользкий поцелуй и обещание второго. Помянул старинные лапидарии, шутливо заподозрил в ведовстве, приворотного зелья просил, скотина. Но дело сделал хорошо: вечером понедельника принес темный тонкий порошок в прозрачном пакете. После второго поцелуя Оленьке стало так гадко, что она едва не решила бросить задуманное. Истолченная в пыль яшма оказалась почти черной.
В магазине подарков Оленька купила двенадцать ониксовых… мисочек? плошечек? черт его знает. Главное, эти штуки идеально подходили. И стоили столько, что Оленьке теперь два месяца придется поминать китайцев добрым словом. За лапшу в пакетиках.
На блошином рынке украла мятый мельхиоровый кубок со святым Георгием. Цена ему была сорок рублей, и купить не жалко, но нельзя.
На рынке обыкновенном мерила свитера и куртки; унесла под кофточкой два шарфа — шерстяной коричневый и синтетический рыжий.
С лотка уличной торговки увела горсть желтой кураги.
Из овощного — полосатое яблоко.
Шарфик коричневый, который побольше, кинула на спинку стула, расправила по сиденью, распутала бахрому. Шарфик рыжий, полупрозрачный, пустила сбоку тремя тонкими складками. Справа уместила кубок с Георгием, развернув той стороной, что не мятая; яблоко — слева и чуть впереди. Курагу рассыпала вокруг, полюбовалась, убрала две штуки. Настольную лампу поставила на ручку кресла, свет получился хороший, тени — глубокие.
Сняла со шкафа едва успевший просохнуть загрунтованный холст, разложила мольберт, вытащила из-за уха карандаш и стала рисовать. Управилась за полчаса, поставила в сторонку — отсмотреться, чтобы потом не передумывать и не переписывать.
Чашечки-плошечки вымыла горячей водой и насухо вытерла льняным полотенцем.
Вытащила из шкафа все свои флакончики и пакетики, высыпала порошки.
Тайные зелья расставила вокруг:
— масло из голубых цветов, что летом распускаются в северных полях,
— прозрачный венецианский терпентин,
— и смолу дерева агатис, которой чудесным образом не дали загустеть.
Капельку одного, две — другого, добавить третьего, перемешать латунной аптекарской ложечкой, повторить двенадцать раз — и вот стоят вокруг Оленьки двенадцать мисочек-плошечек краденого волшебства.
Белила, думает Оленька, придется взять обыкновенные, из тюбика.
Жалко.
Натюрморт будет готов к летней сессии. Оленька его назовет — «Украденное».
Она представляет, как с гордостью будет рассказывать про кубок и шарфики, про то, как смешно таскать курагу из-под носа торговки и как страшно в магазине, потому что там камеры. Как мучительно будет молчать о красках, о самом главном, об украденном по-настоящему. Как Татьяна Олеговна поднимет бровь и скажет: что ж темноте так? Ну не перебелила в кои-то веки, и то молодец.
В кровати, перед сном, Оленька понимает, что ей совсем плохо.
Понимает, как это все мерзко, бессмысленно и глупо. Как недостойно настоящего художника и как смешно для обыкновенного человека. Как подло по отношению к тем, у кого украдено самое главное. Оленька плачет и думает: ну не виновата же я, что это придумала, что мне пришлось это сделать, — иначе оно бы съело меня изнутри. Обещает себе сходить в поликлинику и узнать про участкового психиатра.
Через двадцать минут слезы Оленьки высыхают.
Бабушку Нину нельзя представить без янтарного ожерелья. Оно тяжелое и некрасивое и чаще лежит в шкатулке, зато она в нем на всех фотографиях, даже на той, что сделала год назад и отложила для памятника. А самое главное — оно из настоящего янтаря.
Истолченный янтарь обливается двойным по весу количеством скипидара, ставится в теплое место, где остается до полного растворения, после чего нагревают смесь на водяной бане и постепенно прибавляют тройное по весу количество горячего льняного масла. Янтарный лак имеет темный оттенок и не годится для светлых красок.