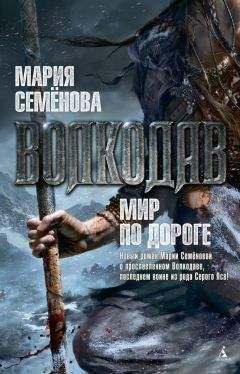Мария Семенова - Истовик-Камень
Может разгневаться только дух несчастного раба, подаренного незримому владыке иссякшей опаловой копи…
Каттай поспешно оглянулся посмотреть, не стоит ли кто за спиной. Сзади, как и следовало ожидать, было пусто. Каттай вслух помянул Лунное Небо (священные слова осыпались на пол штрека, как бессильная горсть сухой пыли) и заставил себя подумать о выкупе на свободу, половину которого должна была ему принести эта жила, если он сумеет отыскать её продолжение. Навряд ли господин распорядитель желал его обмануть… Ему ведь надо, чтобы лозоходец в лепёшку расшибался, открывая новые залежи. А чего ради лезть из кожи рабу?.. Каттай снова вспомнил ярость невольников, когда-то спасшую Гарната-кат. Только ради свободы! И если бы тех рабов обманул государь, пообещавший им вольную, – больше на защиту столицы не поднялся бы ни один…
Каттай собрал воедино всё своё небогатое мужество, зачем-то прикоснулся рукой к серьге-«ходачихе», судорожно сглотнул – и шагнул вперёд, в темноту. Упругая тьма неохотно расползлась в стороны, медленно уступая свету фонарика. «Не гордись, будто отогнал меня, маленький человечек. Скоро ты отсюда уйдёшь, и я опять займу своё место. И буду здесь ещё долго-долго после того, как превратятся в прах твои кости…»
– Я выкуплюсь на свободу, – шёпотом, поскольку горло окончательно пересохло, ответил Каттай. – А потом выкуплю маму, отца и всех, кого захочу!
«Ну-ну, попытайся, маленький человечек. А я посмотрю, что у тебя выйдет…»
Пламя Недр живёт в мягкой породе, похожей на бурую застывшую пену. Там, где эта порода выходит на поверхность, кажется, будто твёрдые скалы некогда плавились и текли, а потом застыли опять. Может, так оно на самом деле и происходило, только давно, очень давно. В то время на лике земли было много огненных гор вроде тех, что мореходы до сих пор видят на островах Меорэ. Говорят, эти горы извергают такие тучи пепла, что день превращается в ночь. Их вершины лопаются, словно перезревшие чирьи, и наружу истекает жидкий огонь. Когда он встречается с водой, вверх с грохотом и шипением вздымаются облака пара. А текучее пламя снова окаменевает. Но, поскольку это всё-таки огонь, хотя и окаменевший, – камень получается совершенно особым. Он плавает в воде, и морские течения доносят его обломки до самых берегов Мономатаны…
Вблизи Самоцветных гор не было моря, куда могло бы стечь жидкое пламя. Излившись здесь, оно застыло громадными толщами. Время проложило в нём трещины, и в этих-то трещинах, словно кровь в ранах, каплями собрались остатки неистребимой сути огня. Так завелись под землёй благородные камни, рождённые от небывалого союза воды и огня и несущие поэтому в себе и одно, и другое…
Закрыв глаза, Каттай стоял возле стены, которую в забоях именовали «челом». Стоял, простирая к ней раскрытые ладони, и слушал. Камни не отзывались. Каттай не знал, сколько лозоходцев побывало здесь до него – и удалилось ни с чем. Много, наверное. Он тоже ушёл бы, оставив бесполезную выработку Госпоже Тьме… но что-то удерживало.
Тишина под его пальцами была НЕ ТАКОЙ, как в иссякшем изумрудном забое. Там его мысленный зов проваливался в пустоту, не порождая ни эха, ни отклика. То, что он чувствовал здесь, больше напоминало толстый ковёр на стене – вроде тех, которыми были увешаны домашние покои господина Шаркута. Ковры скрадывали шаги, изменяли звук слышимой речи… и могли многое спрятать. Например, тайную дверь…
Каттай даже снял со лба влажный от пота кожаный обруч с фонариком. Наклонился положить его наземь… и чуть не выронил от испуга. Прямо на него смотрел пустыми глазницами череп. То, что было когда-то лицом, менявшимся от гнева, радости или страха, начисто объели рудничные крысы; лишённая плоти мёртвая голова хранила вечную усмешку, как если бы её обладатель знал нечто, превосходящее разумение Каттая и прочих живых, и смеялся над их тщетой оттуда, где он теперь пребывал.
Это был череп раба, принесённого в жертву. Здесь, на этом месте, его и убили, когда стало ясно, что последний сгусток Пламени Недр, вырубленный им и его товарищами, – действительно ПОСЛЕДНИЙ.
Каттай опустился перед черепом на колени.
– Прости меня, мёртвый, ушедший на Праведные Небеса своей веры. Я пришёл сюда вовсе не затем, чтобы тревожить твои кости. Позволь, я тебе расскажу…
С удивившей его самого ясностью представил себе «Мельсину в огне» и начал говорить. Череп слушал, не перебивая. Каттай только собрался поведать ему о матери и отце, когда с его глаз словно бы начала спадать пелена. Умолкнув на полуслове, он поднялся, осторожно перешагнул разворошённые крысами кости и снял с пояса свой молоток рудознатца. Маленький стальной молоточек на крепкой рукояти из рябины, подарок господина Шаркута. Каттай даже не стал поднимать с пола фонарик – примерился и ударил по большой глыбе, которую некогда вывернули из толщи, но не стали ни колоть, ни пилить, сочтя совершенно пустой.
Молоточек Каттая отбил довольно большой кусок шершавого камня, только годившегося сводить с пяток мозоли. И… в самой середине пористой черноты свежего скола вспыхнул словно бы живой переливчатый глаз. У Каттая перехватило дыхание. Пламя Недр!.. Самое что ни есть настоящее!.. Увидев один раз, его трудно не признать вдругорядь. Даром что попавшийся самоцвет был совсем маленьким и к тому же не огненным, как «Мельсина», а радужно-синим. Куда только подевался весь страх! Каттай принялся крушить податливую породу и наконец выломал кусочек размером с кулак, весь в прожилках и пятнах замечательного опала. Велико было искушение немедля броситься с ним прямо к распорядителю, но мальчик сдержался. Сунул драгоценную находку за пазуху и вернулся в чело забоя, уверенный, что теперь-то «ковёр на стене», устроенный здесь неведомо кем, больше не помешает ему.
Простёртые ладони снова замерли в полувершке от неровностей шершавой породы, изборождённой ударами зубила. Тщетными, отчаянными ударами, нанесёнными в последней попытке что-нибудь обнаружить. Каттай столь явственно ощутил это отчаяние, словно ему довелось испытать его самому.
А между тем Пламя Недр было здесь. Рядом. На расстоянии каких-то пядей. Люди, трудившиеся в забое, потеряли надежду, когда им оставалось буквально ещё одно усилие. Рои, созвездия, россыпи самоцветов простирались далеко в глубину, делаясь по мере удаления всё прекрасней, и там, далеко в толще, Каттай различил дыхание поистине великих камней. Камней, способных затмить и «Мельсину», и не только её…
– Вот видишь, – сказал он черепу, и собственный голос от возбуждения прозвучал незнакомо. – Тебя принесли в жертву зря. Духу этого забоя ещё не ко времени была твоя кровь…
Говоря так, он не переставал слушать недра… и его тайного слуха внезапно достиг ещё один голос, вернее, Каттай наконец сумел его вычленить и понять.
Хороня шёпот драгоценных камней, из непроглядной глубины, оттуда, где в самом деле покоились корни гор, невнятно и грозно вещала та же самая Опасность, чьё присутствие он впервые уловил подле Сокровищницы. Голос был огромным и тёмным и вселял дрожь. «НЕ ЛЕЗЬ СЮДА, МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК. ОТСТУПИСЬ. А ТО КАК БЫ НЕ ПРИШЛОСЬ ПОЖАЛЕТЬ…»
– Нет, – вслух ответил Каттай и нагнулся за фонариком. – Я не отступлюсь и не пожалею. Это моё Деяние, и я должен его совершить!
Маленькое пламя за перевитым проволокой стеклом безо всякой причины металось и вздрагивало, порываясь угаснуть. Каттай даже подумал, не кончается ли в светильничке масло, – хотя помнил, что, собираясь сюда, заправил его самым тщательным образом… Если бы он в этот миг оглянулся, то вместо своей тени на стене увидел бы чужую. Незнакомая тень была громадна и сгорблена и воздевала руку в отвращающем жесте…
Но Каттай ушёл из забоя не обернувшись. А потом достиг лестницы и помчался вверх по ступенькам так, словно у него за спиной выросли крылья. Господин Шаркут обещал ему по крайней мере половину выкупа на свободу. А сколько ещё жил, не меньших по щедрости, скрывает жадная Тьма?!.
На семнадцатом уровне добывали камень златоискр, или попросту искряк.[18] Красивый самоцвет, состоящий словно бы из бесчисленных крохотных блёсток, красиво переливающихся на свету, однако ничего уж такого ценного и особенного. Не яшма и подавно не рубин с изумрудом. Редкие куски златоискра удостаивались чести быть вставленными в серьги и перстни знатных красавиц. Основная часть добытого самоцвета шла на поделки куда как попроще. В мастерских несравненного Армара из искряка вырезали ручки для ножей и серебряных ложек, подсвечники и печатки… Всё – маленькое, ибо полосы достойного камня в породе бывают шириной еле-еле с ладонь.
Того, кто носит при себе златоискр, не оставит счастливое настроение, его разум всегда будет ясен, а дух – бодр…
А если этого вдруг не произойдёт, неожиданное бессилие талисмана объяснят чем угодно. Неподходящей оправой, несоответствием камня звезде, под которой родился его обладатель… Кто при этом вспомнит запоротых рудокопов, ослепших гранильщиков, исподничих,[19] умерших от рудничного кашля?..