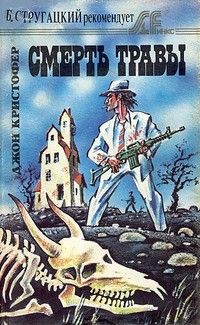Елена Хаецкая - Падение Софии (русский роман)
— Наверное, он просил ее все же отказаться от ложи, — сказал я. — Сегодня он говорил что-то о «недопущение лиц одного сорта смешиваться с лицами другого сорта»… И был крайне обеспокоен. Может быть, его предупредили о возможном скандале.
Витольд дернул плечом:
— Вы считаете это важным?
— Нет, но… Вы же сами утверждаете, что наблюдение за местной флорой и фауной есть необходимая мера предосторожности.
— Наверное, — согласился Витольд равнодушно. Он явно не был заинтересован темой разговора и спешил вернуться к себе.
Я махнул рукой.
— Хорошо, ступайте.
— Рад, что помог вам, — сказал Витольд.
— Ничего вы мне не помогли, — проворчал я.
Но Витольд уже ушел.
Глава девятая
Опера «Гамлет» репетировалась в доме Скарятиных под строгим секретом. Лисистратов пытался подслушать и дежурил для этого под окнами, но Скарятин принимал свои меры и посылал лакея на стражу. Один раз Лисистратов даже вступил в схватку, но быстро был побежден и изгнан с позором. После этого он повсеместно рассказывал, что успел услышать целую арию и что это «полная ерунда, а не музыка, что, впрочем, давно предсказано».
Тем не менее спектакля ждали с большим нетерпением и заранее уже разбирали билеты. Витольд, явившись ко мне в «ситцевую гостиную» с очередным утренним докладом, сообщил, что приобрел (точнее, обрел) два: для меня и для себя. Себе он купил в партер; что касается меня, то Анна Николаевна Скарятина изволила пригласить меня в свою ложу.
— Обычно она там сидит с отцом, — прибавил Витольд, блуждая взглядом по стене над моей головой. — Изредка приглашается какой-либо гость. В данном случае — вы.
— Стало быть, мне оказана большая честь? — уточнил я.
— Несомненно, — заверил Витольд. — Поэтому позвольте дать вам совет: постарайтесь не заснуть. Я знаю, что опера многих вгоняет в сон, особенно прогрессивное юношество; ну так вам надлежит избежать общего порока. Николай Григорьевич будет сильно интересоваться вашим мнением. Ваше мнение должно быть обоснованно-положительным.
— Это как?
— Вы не просто должны сказать, что «понравилось» и замолчать с сонным видом, но высказать несколько дельных замечаний.
— Слушайте, Безценный! — сказал я возмущенно. — Как это я выскажу дельные замечания, если ничего не понимаю в музыке?
— Скажите, что ария Офелии была проникновенной, а дуэт Гамлета и Гертруды содержал в себе новые музыкальные идеи, которых вы прежде никогда не слышали. Это будет чистой правдой, поэтому Скарятин останется доволен.
— С чего вы взяли, что дуэт будет именно таков?
— Собственно, я имел в виду не дуэт, а ваши познания в области музыки, — хладнокровно объявил Витольд. — Вы в любом случае ничего подобного прежде не слыхали, поэтому ваша реплика прозвучит абсолютно искренне.
Я помолчал и осведомился:
— А вы не слишком обнаглели, Безценный?
Он вздохнул:
— Полагаю, да. Начинаю перегибать палку. Это от бессонницы. Плохо соображаю, Трофим Васильевич, поэтому и говорю все как думаю.
— Хорошо же вы обо мне думаете…
Витольд криво улыбнулся:
— На самом деле — хорошо. Просто я не высыпаюсь.
— Почему? — спросил я. — Учтите, Безценный, если вы утратите ясность соображения, мое хозяйство может разориться.
— Оно не сразу разорится, а постепенно, — утешил меня Витольд. — Слишком хорошо налажено, чтобы за пару месяцев пойти прахом.
— Вы намерены не высыпаться пару месяцев?
— Нет, — сказал он. — Думаю, дней через пять все наконец закончится.
— Да что закончится-то? — рявкнул я. — Что с вами происходит?
— Со мной — ничего, — сказал Витольд. Он оставил билет в ложу у меня на столе, коротко поклонился и вышел, как обычно, оборвав разговор.
Я подавил желание запустить ему вслед кофейной чашкой, рассмотрел внимательно билет с красивой виньеткой и оттиском «Личная ложа Скарятина», почесал у себя за ушами — обычно этот прием быстро освежал мысли — и вдруг сообразил: Витольд не высыпается из-за больного фольда.
Инопланетянин все это время оставался у Витольда в комнате. Как мне и было обещано, я о нем больше не слышал и больше его не видел. Поэтому-то он и выпал на время из моего внимания. Но это не означало, что его не существовало вовсе. Он находился там, в каморке, на Витольдовой постели. Сам Витольд спал, очевидно, на полу или в креслах. И с утра до ночи обихаживал краснорожего: обкладывал компрессами, менял на нем одежду, подавал ему еду, выносил из-под него горшки и прочее.
Я постарался отогнать от себя возникшие было в мыслях картины. Интересно, как проявляется в человеке ксенофобия. Положим, здоровый инопланетянин вызывает у меня любопытство, даже своего рода симпатию. Я ощущаю себя вполне в состоянии пожать ему руку и мысленно полюбоваться на свою терпимость к чужакам. Но одно только представление о больном инопланетянине поднимает в душе настоящие волны брезгливости.
В конце концов я установил, что наличие или отсутствие ксенофобии определяется по нашему отношению именно к нездоровым особям чужого вида. И в этом смысле я, конечно, полный ксенофоб. Хорошо еще, что у себя в доме я имею право этого не стыдиться.
Утро я провел очень спокойно — устроившись на диване с чашкой кофе и тетрадями покойного Кузьмы Кузьмича.
Я уже упоминал как-то, что Кузьма Кузьмич вел обширную переписку с разными лицами и всю ее хранил в образцовом порядке. У покойного дяди имелось интересное обыкновение вклеивать полученные эпистолы в большие тетради, переплетенные в тисненую кожу. Между вклеенными чужими письмами он оставлял листы, на которые заносил собственные ответные послания, так что вся переписка собиралась у него в конце концов в род самодельной книги.
Для каждого корреспондента у дяди была заведена отдельная тетрадь, а всего их обнаружилось в его архивах более десяти.
Вообще я не имел обыкновения читать чужих писем, и даже не потому вовсе, что это против всех правил приличия, а по иной причине: обыкновенно чужие письма мне совершенно не интересны. Какое мне дело до того, что некая Марья Сергеевна изменила какому-то Петру Ивановичу, а объем продаж в торговой компании, о которой я слышу впервые, падает или, наоборот, возрастает! К тому же большинство людей чрезвычайно плохо и скучно излагают свои мысли. Их послания, как правило, не могут предложить стороннему читателю ни связности, ни толка, ни содержания.
Но дядины тетради представляли собой нечто совершенно особенное, можно сказать — выдающееся. Во-первых, они давали мне возможность заглянуть в мир покойного Кузьмы Кузьмича, которым меня здесь попрекали все, кому не лень. Во-вторых, некоторые дядины корреспонденты были по-настоящему интересными людьми, чьи суждения и даже личная жизнь имели некоторое общественное значение, а не только частное.