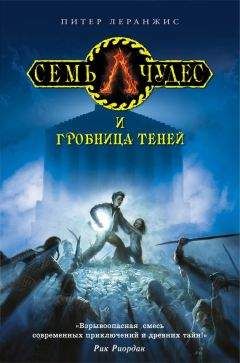Карина Демина - Хельмова дюжина красавиц (СИ)
Сестра, сев у изголовья кровати, расправила серое платье.
Скучная она.
Все они здесь скучны, одинаковы… суконные платья, белые воротнички, синие фартуки с тремя карманами… молитвенники эти… полотняные наметы, которые полагалось носить надвинутыми по самые брови. И оттого лица милосердниц казались какими-то половинчатыми.
Они говорили шепотом. И со смирением принимали любых пациентов…
…сестра бубнила. И голос ее монотонный убаюкивал, но Богуслава не желала соскальзывать в сон.
Душила обида.
Получается, что все зазря?
Приворот… согласие ее… и демон этот, которого ей мучительно недоставало… с демоном она была сильной и не нуждалась в муже, а теперь…
Кажется, она все-таки заснула, потому что когда открыла глаза, то увидела батюшку. Он сидел на месте сестры-милосердницы, сгорбившийся, постаревший и несчастный.
…а все он!
Привел в дом какую-то…
— Здравствуй, Славушка, — сказал он елейным голоском, от которого у Богуславы челюсть свело. — Как ты?
— Плохо, — она вздохнула, и папенька подался вперед, за руку взял. — Забери меня домой…
— Заберу, Славушка, всенепременно заберу… когда целительницы разрешат… сама понимаешь, мы должны их слушаться…
Папенька глядел ласково и руку гладил, и был таким непривычно смирным, что Богуслава заподозрила неладное.
— Они же говорят, что тебе в мир пока неможно…
— А куда мне можно? — поинтересовалась Богуслава и с немалым трудом села в постели.
Белая.
И стены белые, потому как кто-то там, верно, матушка-настоятельница или кто к ней близкий, решил, что созерцание белого способствует излечению души. От белого Богуславу мутило едва ли не больше, чем от душеспасительных бесед и молитв.
— В сад можно, — после долгого раздумья произнес батюшка.
И креслице на колесиках подкатил, и помог Богуславе пересесть. Сестра-милосердница, тотчас объявившаяся, хотя никто-то ее не звал, поспешила набросить на плечи Богуславы шаль.
Белую.
И пледом белоснежным ноги укрыла. А волосы — платком, правда, серым, верно, белый уж больно на фату смахивал…
В саду цвели цветы. Буйно. Пышно.
Раздражающе.
— Славушка, — папенька подкатил кресло к беседке и не без труда втолкнул внутрь. — Мне сказали, что ты… как бы это выразиться… тебе сложно ныне будет в миру… все-то знают про… не то, чтобы тебя кто-то винит, но…
Богуслава кивнула: не маленькая, сама понимает: одержимость — недуг, о котором в обществе вспоминать не принято. И не только о недуге, но… выходит, что и о самой Богуславе?
Она теперь из тех, о ком забудут?
Вычеркнут из светской жизни, словно бы и не было таких…
— Ты не расстраивайся, — папенька шаль поправил. — А может, оно и к лучшему… поедем с тобой на деревню… я поместьице прикупил одно… будем жить, лошадей разводить…
— И кур.
— Как скажешь, Славушка… тебе какие больше по нраву?
— Рыжие, — мрачно сказала Богуслава, представив свою дальнейшую жизнь в тиши поместья, в окружении лошадей и кур.
Уж лучше бы ей и дальше одержимою оставаться.
Кто просил демона изгонять?
— Рыжие… конечно, рыжие… выведем новую породу… повышенной яйценоскости… назовем твоим именем…
— Папа, ты что несешь?! — Богуславе странно было видеть папеньку таким. Куда подевался прежний князь Ястрежемский, который навряд ли стал бы о курах и повышенной яйценоскости думать. А может, Агнешка и с ним чего сотворила?
К слову о ней…
— Ты развелся, надеюсь?
— Овдовел, — признался папенька, потупившись. — Ты уж прости, деточка… не верил тебе… околдовала, глаза застила…
Ага, только не волшбой, а бюстом своим и еще кое-чем, о чем приличным девицам знать не полагается.
— Хорошо, — сказала Богуслава, глаза прикрывая. Дневной свет причинял ей боль, но она терпела, поскольку заяви о том сестре-милосерднице, враз лечить станут.
А лечение у них одно — молитвы в неумеренных дозах.
Нет уж, Богуслава как-нибудь сама управится, без молитв…
— Что хорошего? — не понял папенька.
— Хорошо, что овдовел… а то я бы ее, и потом на каторгу. Мне на каторгу неохота… — это Богуслава сказала искренне.
— А куда охота?
Папенька подвинулся ближе и в глаза заглянул, этак, заискивающе.
— Замуж, — решилась Богуслава, понимая, что еще немного и драгоценного своего батюшку огреет молитвенником по лысине. Глядишь, святое слово и усвоится.
Благости опять же прибудет.
— Так… Славушка, — папенька смутился и кончик носа у него покраснел.
Ручки трет.
Озирается воровато… и чем больше этаких, нехарактерных для папенькиного вспыльчивого норову признаков Богуслава находила, тем сильнее преисполнялась нехороших предчувствий.
— Не возьмут тебя замуж, Славушка, — наконец, признался он.
— Это почему же?
— Так ведь… одержимая… и слух пошел, будто бы разумом повредилась… и что демон с тобой сотворил… всякое, — у папеньки покраснел не только нос, но и уши. Волнение ли было тому причиной, или же просто жара — а месяц выдался до отвращения душным, пыльным — но князь Ястрежемский сильно потел. — Сама понимаешь…
— Понимаю, — медленно произнесла Богуслава.
Значит, папенькин деловой партнер, вещавший о неземной своей любови, передумал… и не только он, выходит… и оно понятно, кому охота одержимую под венец вести… боятся…
И правильно.
Пустота внутри Богуславы не исчезла, да и не исчезнет, с сей данностью надо смириться, она и смирилась почти что, но лишь испытывала глухую обиду на все человечество, на несправедливость… разве она, Богуслава, заслужила этакое?
— И какие варианты? — поинтересовалась она, покусывая губу, чтобы не разрыдаться.
— Так… я же сказал, Славушка… поместье… лошади… годик-другой, пока слухи поутихнут… а там, глядишь, и поутихнут…
Годик-другой?
Что ж… почему бы и нет… Богуслава как-нибудь да выдержит.
— Или же… — папенька вновь замялся. — Сестры говорят, что будут рады дать тебе приют… если ты пожелаешь от мира отречься… подумай, Богуславушка.
И взгляд отвел.
Понятно.
Отречься. Уйти в монастырь. Папенька, небось, не пожалел бы и половины состояния, потому как одно дело — дочь, которая демона в душу и тело пустило, и другое — монахиня…
…и выбрал бы обитель посолидней.