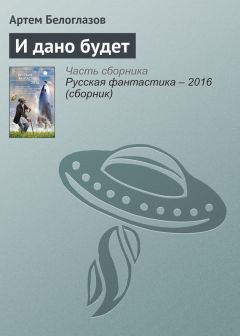Георгий Эсаул - Моральный патруль. ОбличениеЪ
К барьеру, сударь! – граф Яков фон Мишель резко оборвал рассказ, выхватил шпагу, но затем прикусил нижнюю губу, пожурил себя молча: — Случай с балеринами на лугу перекликается с вашим правонарушением, милостивый государь!
Вы испустили газы в присутствии девушки морального патруля – преступление безнравственное, неслыханное, порочное, всё равно, что вы высосали кровь младенца.
Но другое я вижу ваше преступление, и оно дёгтем замазывает непроизвольное испускание газов в присутствии девушки – так Снегурочка теряется в горящем Дворце.
Вы на холсте, милостивый государь, изобразили безобразный пень с натуры.
Пень, на нём сейчас восседает оскорбленная Элен, вы перенесли с художественным вымыслом на холст, будто спасли из болота кикимору, но забыли о тонущей Королеве.
Ни один благородный художник не опустится до изображения безобразного; поэты не воспевают пни; музыканты не посвящают пням симфонии, потому что пень – безобразное, а безобразное противоречит искусству, попирает грязными пятками эстетику.
Высшая мера наказания художнику за рисование неблагородного!
— Браво, командир! – воительница Элен захлопала в ладоши, потянулась белорыбицей (художник крякнул).
— Только в целях спасения морали я осуждаю вас за нарисованный пень!
Художник призван к гармонии, идеалам; а где гармония и идеал в старом обрубке дерева?
Отрежьте ноги истопнику и рисуйте инвалида; разве инвалид без ног – искусство?
Соловей на розе, благородная девИца с книжкой и скрипкой, шевалье в парадном камзол, поэт на склоне горы, – мало ли тем для вдохновения художника? Неиссякаемое море прекрасных сюжетов с нимфами, или даже с балеринами погорелых театров – только не изображайте грязные пятки.
Вы же совершили преступление, словно обезглавили Галактическую принцессу Сессилию Гарсиа Ганди Маркес — нарисовали пень.
Лоботомия, кастрация, протыкание глазных яблок перьями для написания иероглифов – самые малые наказания за ваш проступок, имя которому – бездна!
— Во-во! – Конан варвар положил руку на дубину, послышался гул, будто ударили во Вселенский Царь-Грохокол.
— Что вы, отчего сердиты на меня, господа? Я же не клерикал и не маслобойщик, похожий на пианиста в сердечном припадке! – художник взмок от волнения, перебегал от графа Якова фон Мишеля к варвару (подойти к топлес Элен не решался – не хватило бы силы духа; вдруг, вместо руки пожмёт патрульной нечто иное, выпирающее батоном). – Разумеется, и испускание газов в присутствии моральной патрульной – признак малодушия, и пень, да, понимаю, что пень – не отвечает ширине взглядов, и вы терпите его только из вашего доброго характера – так нетопырь терпит русалку с револьвером.
Когда я убегал по лесу от ведьмы из пряничного домика, то судьба моя казалось предрешенной, как у лунатика на крыше.
Жаркое, не скажу, что неприятное, но опасное – дыхание преследовательницы – эфир колыхался от её обнаженного тела с запахом лаванды.
Бросок, она схватила меня за жабо: я прикрыл глаза и мечтал заснуть, чтобы проснулся через сто лет.
Но вдруг, вскрик за спиной – так кричит раненые фламинго с перебитым крылом.
Падение упругого тела на упругий мох – я литературно выражаюсь, оттого, что часто рисовал фламинго и мох.
Я обернулся и чаял увидеть картину: красавица в объятиях медведя Михайло Потапыча.
Ан! Нет, не сон и не постель с балериной и килограммом сушеного гороха.
Преследовательница моя, блистающая наготой, лежала без сознания – очевидно, что запнулась о пень, упала, ударилась головой о другой пень; и теперь только жилка бьется комариным животиком на шее.
Я подошел, потрогал своего спасителя – пень; к девушке не прикоснулся даже, хотя возжелал подвига, но верил, что песни о пулях у виска не напрасно написаны, не с голой мечты, и, в возможно, о пока я трогаю обнаженную красавицу, одна из пуль пролетит мимо моего виска: запоздалый охотник-браконьер, партизан, или следователь-хапуга, – всё одно.
Я удалялся от пня и от ведьмы, шажки выверенные, балеронские, осторожные — посещал в детстве школу балетного искусства, преуспел чрезвычайно, ногу выше головы не поднимаю, но на шпагат сяду с превеликим удовольствием, будто меня медом намазали.
— Не следует, вы не балерина! – граф Яков фон Мишель усмехнулся, облизнул побелевшие от гнева губы, равнодушно скользнул взглядом по расслабленной – будто весь Мир провалился в ад – воительнице Элен.
— Эх, молодежь, не угадываете правду в искусстве, трусы носите! – художник пожурил графа Якова фон Мишеля, но мягко, пухово, готовый в любой момент бухнуться на колени и целовать мох. – Пень глубоко запал мне в душу: пень-освободитель, пень-философ, пень-кручина, пень-мечта.
Да, много еще определений пню, даже Солнце назвал пнём, и жену свою в радостях величаю пнём.
Через две недели я вернулся в лес, вооруженный ломиком и кистью художника, выкорчевал пень и с превеликим удовольствием и чувством тоскливой слезливости, румяный от волнения и грёз, отнёс пень в опочивальню.
Супруга моя спала, мечтала во сне о ярмарке с петухами и клоунами-культуристами.
Она любит мощных клоунов, чтобы ягодицы – Во! руки перекачаны, а на грудь – если упадёт воз с репой, то отлетит в небеса.
В любовниках у моей жены всегда ходят два, три клоуна-культуриста, но ведь – во славу искусства, я же не чайник, вижу, что душа моей жены со мной, а тело иногда уходит к клоунам.
Поднял пень над головой спящей супруги, дрожу от вожделения; не скажу, что пьян, как полковник, но выпивши, и выпивка светится во мне жидким радиоактивным кобальтом.
У меня в чуланке стоит свинцовый термос с кобальтом, и лунными ночами, я снимаю крышку, опускаю пальчик в радиацию и мечтаю о Славе Мирового художника с обугленным лицом.
Супруга проснулась, но скандал не закатывала, молча смотрела на пень, зевала, а затем разговорилась, будто не под нависающим пнём лежит, а в ресторации на столе.
«Милый друг мой, супруг с пнём!
Чаяла я дерзости от тебя, иногда представляла, что надую тебя через ягодицы соломинкой, чтобы ты превратился, нет, не в цыганского коня с копытами желтыми полевыми очами, но в клоуна-культуриста.
Ты опередил меня, преподнёс вместо часов с маятником пень, и пень для меня стал символом напольных часов с маятником Фуко.
Когда у меня выпадали молочные зубы, мама привязывала нитку к маятнику часов – в маятнике запаяна урна с прахом моего деда, маминого отца, другой конец нитки к – моему зубу… и – нет зуба, как нет одежды на спящей натуристке пианистке.