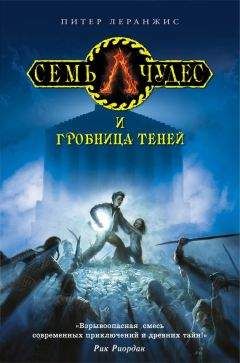Карина Демина - Хельмова дюжина красавиц (СИ)
— Чем? — поинтересовалась Аленка, которая глядела на живую легенду с немалым подозрением, но хоть бы без прежней своей влюбленности.
Влюбленность — это боль.
А Евдокии не хотелось, чтобы сестре было больно.
— Кем, — поправил Себастьян. — Аврелием Яковлевичем. От него избавиться не так-то просто, потому отдохните… носик там припудрите… глаза нарисуйте. Только, когда объявится, с визгом на шею не кидайтесь. Глупо выглядит.
И откланялся.
А газетку, что характерно, с собой прихватил.
— Знаешь, — задумчиво произнесла Аленка, на дверь уставившись. — Мне отчего-то кажется, что он притворяется…
— Кажется.
Не хватало рецидива любовного… Евдокии бы с собственным справиться.
С визгом на шею?
Хорошая мысль…
— Ты улыбаешься!
— Нельзя?
— Можно! Нужно! И вообще… а платье уже решила, какое наденешь? Я думаю, что зеленое пока не стоит. Тебе, конечно, зеленый к лицу, но сейчас ты очень бледная… а розовое — слишком по-девичьи как-то… лиловое темное…
Аленка, распахнув дверь гардероба, самозабвенно перебирала платья, в каждом находя какие-то недостатки, которые оное платье делали недостойным Евдокии. А поскольку нарядов было не так и много, вскоре Аленка произнесла заветное:
— Тебе надеть нечего!
Евдокию одежный вопрос волновал меньше всего.
— Ерунда… там полосатое есть…
— Оно совсем простое!
Простое. Домашнее. Тем и лучше, потому что… Евдокия сама не знала, почему. Предчувствие грядущей катастрофы ее не отпускало…
— Я… пойду прилягу… голова…
— Все нормально?
— Да… не знаю…
— Скажи, что…
— Ничего… просто устала, наверное. Сколько я не спала?
Маленькая ложь во благо? Пусть будет, главное, что Евдокии и вправду следует прилечь. Она и сама готова поверить, что это ее беспокойство рождено единственно бессонницей. Так ведь бывает, верно?
Иррациональные страхи.
И сон приходит, наваливается, душный, пыльный, чужой.
Евдокия точно знает, что сон этот ей подарили или, точнее сказать, подбросили, как подбрасывают к дверям дома приблудное дитя, в надежде, что не оставят его лаской…
…не оставила…
…и вправду небо серое, стальное, с булатным узором облаков.
…под ногами мох ковром дорогим, каковые из Першии возят. Ноги проваливаются по самую щиколотку, и идти тяжело, поскольку гуляет земля, ведь ковер поверх водяного омута бросили. Неосторожный шаг — и прорвется.
Тогда не станет Евдокии.
С головою уйдет под воду… а там ждут, она знает, видит почти зеленоватых дев в одеяниях из рваных сетей…
…сестрою кличут.
Ерунда. Не сестра она им, чужая в этом мире, где мох расцветает от крови, и ползут по только что белому ковру узоры…
Идти надобно. Куда? Прямо, не останавливаясь, к дубу, молнией расколотому. Дерево это живо той странной здешней жизнью, которая Евдокии видится подделкой под настоящую. Она трогает шершавую кору, которая отзывается на прикосновение дрожью.
— Зачем пришла, девица? — спрашивают ее.
Старик в волчьем плаще…
…или не старик? Руки, что сжимают посох, сильны. А лица не разглядеть, скрывает его низкий капюшон. Но Евдокии кажется, что человек этот смотрит на нее с улыбкой.
— Зачем пришла? — повторяет он вопрос.
И губы Евдокии разжимаются:
— За тем, что принадлежит мне.
— Хорошо.
И посох падает на мох, чтобы в нем утонуть. А смуглые, перевитые вязью кровеносных сосудов руки, стискивают голову Евдокии. Лицо под капюшоном приближается…
А ей не страшно. Любопытно только.
…холодные губы касаются лба.
— Это тебе поможет, — говорит Волчий Пастырь, отпуская. — Когда придет время…
— Спасибо…
…этот поцелуй, метка, которая остается на Евдокии во сне, меняет мир. И белизна мохового ковра больше не режет глаз, да и омут под ним не пугает.
Сон выталкивает Евдокию, выворачиваясь наизнанку, и она лежит на перине, глядя в потолок, удивленная тому, что вовсе он не серый. И облаков нет.
Странно как…
Евдокия подняла руку, растопырила пальцы, удивляясь и собственной власти над телом, и тем, что тело это, несомненно, ей принадлежащее, пребывает в некой престранной истоме.
Будто Евдокия выходила.
А потом вернулась, но как-то… не полностью, что ли?
Она встала.
И умылась. И задержалась перед зеркалом, расчесывая длинные и слишком уж тяжелые волосы. Гребень скользил по прядям, и те рассыпались, а неловкие пальцы все никак не могли собрать их в косу.
И лента норовила сбежать.
Но Евдокия справилась сама.
— Дуся, — Аленка вошла на цыпочках. — Ты еще спишь?
Наверное, да, иначе почему все такое… неправильное? А предчувствие не исчезло, осталось в груди камнем на сердце, и тяжеленным, едва ли не надгробным. Того и гляди вовсе сердце раздавит. Много ли ему надо? Но Евдокия улыбнулась и сказала:
— Уже нет…
— А полоска полнит, — вредно заметила Аленка, которой не нравилось, что платье Евдокии слишком уж простенькое. Для домашнего, конечно, сойдет, но вот гостей принимать…
— Ничего.
Полноты Евдокия не боялась.
А чего боялась? Перстень на месте, только потяжелел, холодным сделался…
— Тогда к тебе пришли…
Лихо? Сердце екнуло. Лихо… конечно, кто еще? И бежать бы со всех ног, пусть бы и пошло сие, глупо, броситься на шею, расплакаться от счастья, что все позади… а Евдокия и дышать-то способность утратила.
Лоб горит.
Пылает.
И не лоб — метка Волчьего Пастыря предупреждением.
О чем?
— Ева? — Лихо был в гостиной и не один.
Лютик вернулся.
Сидит у окна, в полоборота, делает вид, будто всецело занят очередным прожектом, альбом вон приоткрыл, пером самописным водит… только ложь это все.
Почему-то Евдокия стала очень явно видеть ложь.
— Ева… мы… могли бы поговорить?
Худой. И бледный. И щетина исчезла, должно быть, за луной ушла, чтобы на новое полнолуние вернуться. И непривычно видеть его таким…
— Наедине, — Лихо покосился на Лютика, который кивнул и молча указал на соседнюю дверь.
Наедине.
Страшно.
Сейчас ей скажут, что…
— Спасибо, — Лихо взял за руку и прижал к губам. А и холодные, почти как перстень, который не ожил.
— За что?
— За то, что ждала…