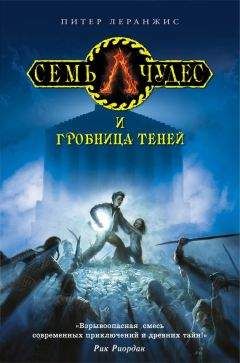Карина Демина - Хельмова дюжина красавиц (СИ)
Держат.
И если не сказать имени…
— Себастьян! — Лихо кричит, захлебываясь стоялою цветущей водой…
…оказывается у костра, который все еще горит ровно. А вода стекает с длинных Лихославовых волос, которые сбились космами.
— Убери, — просит он, возвращая книгу хозяину, чему тот нисколько не рад, головой качает, повторяя:
— Смотри. То, что было… и то, что будет…
Девушка в черном платье.
Черная шляпка.
Черная вуаль. Ей не к лицу чернота, равно как и слезы, которые она вытирает рукой в черной перчатке. За плечами девушки — Себастьян, тоже в черном, хотя Лихо точно знает, что братец этот цвет на дух не переносит…
…траур у них?
Плевать.
Бес слишком близко подошел к девушке.
И приобнял как-то очень уж по-хозяйски… утешая? Успокаивая? Виделось за этим жестом нечто большее… а ведь Лихо его предупреждал, чтобы не смел лезть к Евдокии…
Имя выпорхнуло бабочкой из костра, Лихо успел его поймать и тонкие, кружевные крылья опалили руки, но Лихо держал, не зная, как ему быть дальше. А проклятая книга вновь оказалась у Волчьего пастыря.
— То, что будет, — повторил он, проводя гнилыми пальцами по переплету. — Возможно… если ты не поторопишься.
И пихнул Лихо в грудь.
Стало больно.
Евдокия знала, что ей нельзя влюбляться.
Что это неправильно.
Больно.
И вообще она вышла уже из девичьего возраста, который грозит этакой чрезмерной чувствительностью. Вышла, да ушла недалеко…
Кричала.
И молчала, когда поняла, что не дозовется. Она ведь всегда была реалисткой.
Лихо умер.
Вот так просто взял и умер. Белый какой. И теплый еще. Вот только не дышит и губы синие… сердце остановилось… у мамы вот болело, но мама жива, Евдокия точно это знает, а Лихо вот на сердце не жаловался, только взял и умер.
И кто-то заставил Евдокию встать.
Себастьян? Зачем он здесь? Ах да, колдовка… вот она, стоит у алтаря, ждет чего-то… чего? Мертвых не вернуть… Евдокия видела многих, там ведь, в шахтах ли, на карьерах, мрут часто… но почему Лихо? Надо взять себя в руки.
Успокоиьтся.
— Тише, — Себастьян встряхивает ее, и оказывается, Евдокия плачет. А она — не из слезливых. И не место, потом, позже, когда тварь сдохнет, а Евдокии очень хотелось, чтобы колдовка сдохла и в мучениях, будет время для слез.
Похороны…
…ее не пустят, потому как она — никто…
…и хорошо. Евдокия не желает видеть, как Лихо в землю…
И зряшняя пустая надежда мучит Евдокиину душу, заставляя отбиваться от рук Себастьяновых, выворачиваться, вглядываться в лицо Лихослава.
Серое.
Губы синие. А волосы растрепались… и кто носит длинные? Уланы-то по обычаю коротенько стригутся, а Лихо… вечно он не по правилам… и та прядка на глазах мешать должна… а не стряхнет, не уберет… и Евдокия могла бы, но не пускают.
Себастьян Вевельский крепко ее держит.
— Все будет хорошо, — от Себастьяна пахнет духами, и запах этот навязчивый душит. — Все будет…
…как-нибудь будет.
Евдокия реалистка. И самоубиваться не станет, а… что станет?
В монастырь уйдет?
Или попробует жить, как живется… она не сумеет больше одна… и наверное, если попросить, то на черном рынке сыщется зелье отворотное… отворот на мертвеца… так бывает? От мыслей стыдно, будто бы она, Евдокия, еще ничего-то не сделав, уже предала… плакать не можется. И злость комом застыла в горле… на колдовку, на Себастьяна, который все это затеял и вновь выжил, а Лихо…
Евдокия попыталась вырваться — не отпустили.
Ударила.
Только разве сил у нее хватит, чтобы ударить действительно крепко, чтобы со злостью, со всею обидой… и ответом на удар развернулись черные крылья, сомкнулись пологом, заслоняя от нее Лихо…
…или ее от того, кем он стал.
— Ты… главное не нервничай, ладно? — мягко произнес Себастьян. — Думай о лучшем… полнолуние закончится… шерсть выпадет, хвост отвалится, и будет братец краше прежнего… главное, чтобы мозги на месте остались…
…полнолуние?
…шерсть?
…хвост… нет, Евдокия, конечно, знала, что Лихо… волкодлак… но знать — одно, а увидеть — так совсем другое, тем паче, что до нынешнего дня Евдокия волкодлаков видела исключительно на картинках. Ну и еще в музее королевском, где выставили огроменное чучело, соломой набитое. И пусть бы у чучела были стеклянные глаза, а когти и вовсе из папье-маше сделанные, как то знатоки утверждали, но впечатление оно производило ужасающее.
Живой волкодлак был раза в полтора больше того чучела, про которое писали, что будто бы шкура для него снята с самой крупной и матерой твари во всем королевстве… и что остальные-то помельче…
…остальные…
— Лихо, — Евдокия попыталась вывернуться из Себастьяновых рук. А он все не пускал, перехватывал, норовя засунуть за крылья, прятал, глупый… Лихо ее не тронет.
— Отпусти! — взмолилась Евдокия, и ее, к счастью, послушали.
Но наверное, сама бы она все одно не устояла на ногах.
— Лихо…
Огромный.
И не волк вовсе, разве что волк бы вырос до размеров лошади… ладно, пущай и до битюгов марьянской породы, у которых копыта с парадное маменькино блюдо будут, ему далековато, но вот с Аленкину арабскую лошаденку точно будет.
Правда, лошаденка выглядит… мирно. А этот скалится, зубы белые, ровные, что твоя пила… и клыки торчат… нет, на человечьем лице они как-то аккуратней гляделись… но вообще и с морды Лихо ничего, узнать можно.
Или это Евдокии так кажется, со страху?
Хотя нет, страху она как раз не испытывает, только… счастье? Безумие какое-то. Ее жених, можно сказать, муж, за малостью законный, сначала помер, а после воскрес страховидлом, от которого здешние девки, и без того крепко повидавшие, чувств лишились… королевич за саблю схватился, да только и Евдокии очевидно, что пользы от этое сабли — одно самоуспокоение.
Но главное, что сама она счастлива.
Именно.
До безумия.
И безумие это толкает к Лихо, потому что знает Евдокия — вовсе он не чудовище… рычит, глухо, но нежно… или только чудится ей эта нежность?
— Панночка… осторожней, — Матеуш произнес это с укоризной, но задерживать не стал.
А колдовка хохочет. Мол, что бы ни сделала Евдокия, нет больше того, прежнего, Лихослава…
— Лихо… Лишенько…
Зверь смотрит на Евдокию. А глаза желтые-желтые, будто из янтаря солнечного сделаны. И в них-то Евдокия отражается. Сама смотрит на это отражение, диву дается, неужели она такая… красивая?