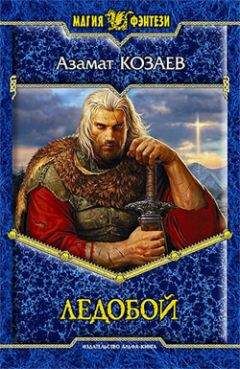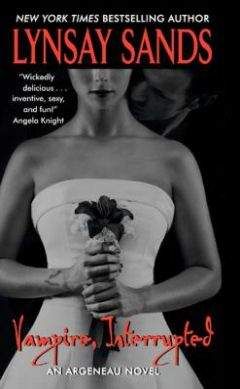Азамат Козаев - Ледобой. Круг
Слушала и качала головой. Каков наглец! Как только Безрод пошел на поправку, тут и старый егоз ожил. Раздухарился, сделай с него изваяние, да не просто изваяние, а сильномогучего поединщика. Да если бы мимохожие знали, с кого списан этот каменный храбрец, со смеху лопнули!
– Тычок, тебя Сивый заждался.
– Иду. А может быть, взять у Безродушки меч? Чтобы точнее было!
– Обойдусь. Не заблудишься?
– Да если хочешь знать, я самый что ни есть первый следопыт! Из любой глухомани выйду! Как-то был случай, заблудилась моя Пеструшка…
Не знаю, мне было приятно слушать старика. Пожалуй, именно такого свекра я и хотела бы. Добрый, бесконечно добрый и заботливый старик в оболочке ершистого колючки.
Тычок ушел, а я какое-то время ходила вокруг да около глыбы. Подступил непонятный мандраж, вроде бы и кровью не пахло и ничья жизнь от меня не зависела, а сердце билось так, ровно все это действительно грозило. А вдруг не получится?
– А кто дядьке Фарратхе расписал охрой все ворота? – шепнула сама себе. – И что с того, что была девчонкой семи лет от роду? Ума как не было, так и нет. Смогла тогда, сможешь теперь! А ну-ка берись за дело!
Я когда-то неплохо живописала. Отец, узнав про мою выходку с воротами Фарратхи, рассмеялся и отдал под мои художества целую стену. Стену бани. Тем более что Фарратха оказался незлобивым воем и ржал во все горло вместе с отцом. Батя так и сказал: «Нарисуй, доченька, банного, да чтобы смеялся. Сам себя увидит, озорничать меньше станет. Веселее нарисуй. Где уж тут озорничать, когда смеешься, за живот хватаешься!» Слезу шибануло. Милое, теплое детство, как ты далеко. Кажется, тогда и солнце светило ярче, и люди были добрее.
Ударила по зубилу первый раз. И пошло-поехало, как в любом деле – только начни. Не заметила, как наступил полдень, а спина с непривычки просто взвыла. А когда по дурной нечаянности бегло разогнулась, я взвыла на самом деле, в полный голос. Доброе начало.
Жуя кашу, что сварила в котелке на рогатке, несколько раз обошла глыбу. Очертила лежащего человека, наметила меч, шлем. Не знала пока, глубоко ли буду высекать. Полагала, на палец. Тесать человека из камня целиком даже не думала. Сноровки и умения пока маловато. После еды влезла на валун и расчертила зубилом доспехи каменного воя. Ничего не забыла, даже ремешки. Стучала по глыбе, пока солнце не село.
Думала, быстрее пойдет, но теперь стало ясно – провожусь не менее седмицы. И встанет на пепелище человек с мечом, а потом достаточно будет рассказать Кречету, что случилось на поляне, и мало-помалу весь город узнает, отчего у дороги стоит каменный вой.
Пусть Брюстовичи мимоездом лишний раз поклонятся павшим товарищам. В конце концов, какое дело, что уложил их один человек, а не ватага? Кровь и есть кровь. И пусть не попомнят дурным словом взбалмошную дуру, что нагородила такой огород. Как там бедолага Вылег? Его искренне жаль. Что вышло бы, окажись он теперь прямо передо мной? А ничего. Угостила бы кашей, и только. Как человек не всегда признает за свои выходки, что творил в бреду или во хмелю, так и я оглядывалась назад и только плечами пожимала.
Кто та девка, что бежала в лес на заре, не помня себя от похоти? Какая дура отдалась жарким телесным ласкам и позабыла обо всем на свете, кроме мести? Неужели я? Пламя в душе посдуло холодными ветрами, и я не чувствовала себя, тогдашнюю. Так сытый не понимает голодного, так же гусь свинье не товарищ. Как он там? Не случилось бы настоящей беды. В его увечье виновата только я, и никто иной.
Когда вернулась, перед палаткой жарко горел костер, и Гарька кормила Безрода с ложки. Он полусидел, укутанный одеялом, но кашу глотал с удовольствием. Сивый едва заметно повел на меня глазами, и Тычок тут же предложил:
– А кто не прочь отведать просяной кашки? С молочком!
– А молочко откуда?
– Свет не без добрых людей! Мимохожий пастух продал. Гнал коровенок на торг.
Свет не без добрых людей. Да-да, конечно, только последнее время их стало, по-моему, меньше. Или просто на нас беды посыпались одна за другой?
Сивый дышал ровно и тщательно пережевывал, хотя зачем кашу жевать – никогда не понимала. Глотай, как голодный волчище, и все. Набивай брюхо.
– Тебе лучше?
– Да.
Он заговорил! Пусть не так громко, как до ранений, но заговорил, и мне не пришлось наклоняться, подставляя ухо.
– Вставал?
– Нет.
А знаешь что, Сивый? Я хочу подпереть тебя плечом и увести к себе в шалаш. Там уложу на мягкий лапник и накрою стеганым одеялом. Стану всю ночь слушать твое дыхание, неслышно проведу пальцами по шрамам, «гусиные лапки» у глаз, три борозды на лбу, две убежали от носа в бороду, давно хочу это сделать, но, видать, глупости было больше, чем желания. И станет мне около тебя спокойно, как в теплом детстве, за отцовой спиной, когда мама хотела выдрать березовой хворостиной, а тот не дал. Сгреб обеих в охапку, и смотрелись мы с мамой друг на друга и только языки показывали. А что сделаешь, если меня батя стиснул правой рукой, маму – левой, и не двинешься и не шелохнешься? Отца сотрясал неистовый хохот, когда обе мы пытались вырваться. Потом и сами рассмеялись. Положила бы твою руку себе на лоб и… уснула детским сном. Ты гляди, только что хотела смотреть на тебя всю ночь, но разве не сдашься в плен такой непобедимой благости?
– Хороша ли моя каша?
– И каша и молочко!
– Знай наших! – Кашевар горделиво приосанился.
– Рада бы узнать, если дадите, – смотрела на Сивого, все искала в нем прежнего Безрода. Холодный, но бесконечно живой и твердый взгляд, голос, полный жизни, для невнимательного уха сухой и хрипловатый. А я знала, что за той сухостью трепещет жуткая сила, как если бы в руках стрельца изогнулся мощный лук. Едва отпустят руки, разогнется и стрелой вынесет сердце из груди.
Гарька и Тычок на мои слова промолчали, только покосились на Сивого. Тот медленно жевал и, не мигая, смотрел на меня. Я не выдержала и заморгала. А там и слезы набежали. Неужели не ответит?
Глава 4
КРАСНАЯ РУБАХА
На четвертый день моих ваятельных потуг случилось два замечательных события, которые в равной степени подняли мне настроение и ввергли в печаль: наконец в куске камня стало возможно разглядеть воя и Безрод встал. Не сам, разумеется, висел на плече коровушки, но все-таки! Потихоньку они обошли палатку кругом, и когда Гарька подвела Сивого ко входу, тот попросил еще. Я стояла рядом с Тычком и во все глаза смотрела, как мой бывший ковыляет к пепелищу. К тому времени пепла не осталось вовсе – весь разметали ветры, но выжженные пожарища остались. У черного пятна Сивый отлепился от Гарьки и, шатаясь, встал сам. Постоял немного и бессильно повалился на живую подпорку. Обратно шли дольше, чем туда, и, когда Безрод проходил мимо, я поймала еле слышное: «Пятнадцать!» Наверное, в то злополучное утро он даже не считал воев, что один за другим вставали напротив. Тычок тут же нырнул Сивому под вторую руку, а я задохнулась от беспомощности. Это не коровушка должна таскать Безрода на себе, а я! Я, и только я! Почувствовала себя собакой, брошенной хозяевами и никому не нужной. Двор теперь охраняет другой пес, и ходу мне туда нет.