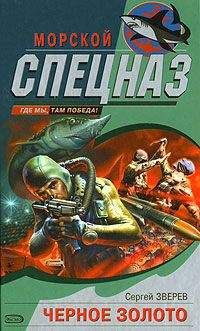Алиса Дорн - голова быка
— Я куплю вам новый, — пообещал детектив.
Я задумчиво растер между пальцами толстый глянцевый лист и вздохнул. Похоже, в своем упрямстве Эйзенхарт не оставлял мне выбора.
Традиционно считалось, что для Дара, подобного моему, необходим непосредственный контакт. На самом деле это было не так, хотя использование проводников требовало больше усилий. Решив, что снимать перчатки мне положительно лень и демонстрация станет от этого еще наглядней, я позволил Дару проснуться. Листок почернел и съежился, следом за ним начал чернеть ствол. Через пару мгновений, когда я опустил руку, в горшке остался лишь темный, будто обугленный, остов.
Через плечо я посмотрел на Эйзенхарта и второй раз за наше знакомство увидел на его лице выражение, которое не мог расшифровать. Было ли в нем удивление, неверие или… жалость? А если последнюю я не выдумал, то к кому? Ко мне или к нему самому? Впрочем, спустя мгновение детектив сбросил оцепенение и улыбнулся своей немного шутливой улыбкой.
— Значит, вот как вы его убили, — хмыкнул Эйзенхарт. — Оригинально. Расскажете, как все было, или мне додумать самому? А то я ведь могу.
Обрадованный, что он наконец мне поверил, я во всем признался.
— Он не вовремя вернулся, — подвел я черту под своим рассказом.
Эйзенхарт подошел к окну, чтобы спрятать среди цветов горшок с погибшим растением, и затушил окурок о землю, из которой торчали останки погибшего фикуса.
— И что мне с вами делать, доктор… — задумчиво пробормотал он, рассматривая Университетскую площадь.
На мой взгляд, существовал лишь один вариант дальнейших действий: отправить меня за решетку до судебного разбирательства. Неприятно, но справедливо. Мне стало интересно, рассудят присяжные мой Дар как отягощающее или смягчающее обстоятельство? Впрочем, я полагал, что это один из тех вопросов, которые лучше рассматривать теоретически.
— Никогда бы не подумал, но мы с вами два сапога пара, — усмехнулся Виктор.
— Простите?
— Вы лезете туда, куда бы вам не следовало, я тоже… Меня отстранили от расследования этого дела, — пояснил он, заметив мой недоумевающий взгляд. — Так что все, что я сейчас делаю, не совсем официально… — сморщил он нос.
— За что вас отстранили?
— А вы как думаете? — Виктор пожал плечами. — Конрад не совсем в восторге от моих методов ведения допроса.
— Простите…
— Не нужно, — прервал он мои извинения. — В четвертый отдел с двумя трупами на руках никому соваться не стоит, а уж с красной меткой и подавно. Кем бы я был, если бы не пытался защитить свою семью?
Порядочным человеком с точки зрения закона, подумал я. Но, как я уже успел заметить, в Гетценбурге было свое понимание порядочности и ее отношения к имперскому праву, в особенности у Эйзенхарта.
— Я пришлю к вам Брэма, — решил он. — И сам подойду, тогда и договорим. Во сколько вы освободитесь?
— Вы уверены, что ваше дальнейшее вмешательство не навлечет на вас еще больше неприятностей?
Виктор вновь пожал плечами.
— Я уже достаточно вмешался в это дело, доктор, чтобы об этом не беспокоиться.
Глава 5
Когда я вернулся в общежитие, я обнаружил дверь в свою комнату распахнутой настежь. Впрочем, я не успел забеспокоиться, как увидел склонившуюся над замочной скважиной рыжую макушку сержанта Брэмли, сияющую бриолиновой помадой в лучах заходящего солнца.
— Добрый вечер, сэр, — поздоровался со мной тот, с осторожностью вынимания замочный механизм.
— Мы, кажется, договорились, что Роберта будет достаточно.
— Боюсь, что это невозможно, сэр. Я на службе, и это было бы грубым нарушением служебного этикета, сэр. Но я благодарен вам за это предложение.
Это было сказано столь серьезным тоном, что я даже не нашелся, что ответить.
— Что вы делаете? — вместо этого поинтересовался я.
— По следам, оставленным на механизме замка отмычкой, в определенных случаях можно определить, кто изготовил инструмент. Видите эти царапины, сэр? Грубая работа, чтобы вскрыть дверь приходится прикладывать силу, поэтому и остаются следы. Будь инструменты хорошего качества вы бы ничего не заметили. А так остался весьма характерный след, по которому можно определить мастера, изготовившего отмычку, — словоохотливо, как человек, занимающийся любимым делом, пояснил мне Брэмли, продолжая ковыряться в замке. — Например, на Королевском острове такие делает Стивенс, а в Лемман-Кливе похожими занимается Хансенсен.
— И вы можете определить их по… царапинам? — не поверил я.
— Это не так сложно, как кажется, сэр. Просто требует определенного опыта.
Я вспомнил, чем Брэмли занимался до поступления на службу в полицию. Пожалуй, чего-чего, а опыта в данной сфере у него было достаточно.
Сержант споро (клянусь, такой скорости я не видел даже в академии на чемпионате по скоростной сборке винтовки) собрал механизм обратно и вставил на место.
— Мы можем пройти внутрь? Мне необходимо осмотреть место преступления.
— Да вы, кажется, уже и так прошли, — проворчал я, но сделал приглашающий жест рукой. — Пожалуйста.
За прошедшее с обыска время я успел навести в комнате относительный порядок, чем расстроил сержанта.
— Лучше бы вы оставили все как есть, сэр, — вздохнул он. — Вы не откажете показать, как это выглядело в тот вечер?
Я не отказал. Под карандашом Брэмли, неуклюже зажатом в по-медвежьи большой ладони, проступали очертания окружавшего нас интерьера. Наводящие вопросы сержанта заставляли вспоминать самые мелкие детали, и с удивлением я наблюдал, как тому удается восстановить картину того вечера. Оторвавшись от карандашного наброска в полицейском блокноте, я посмотрел на самого Брэмли. Если вглядеться внимательнее, можно было увидеть, что для Медведя он отличался не самым крупным сложением. Он был тонок и жилист и невысокого роста, как я сам, как мря мать, как леди Эйзенхарт и как, должно быть, их сестра, которую я никогда не встречал. Он казался мощнее из-за Артура-Медведя, оставившего на нем свою метку, но на самом деле был угловат и несклепист, как все подростки. Руки, которые он не знал, куда деть, были по-медвежьи грубыми, но в то же время обладали длинными чуткими пальцами. Если бы его жизнь сложилась иначе, Шон мог бы стать, если не музыкантом, то отличным художником. Более чем отличным, признал я, глядя на его рисунки в блокноте. Но вместо этого он стал вором, а затем полицейским.
Цветом кожи и волосами он пошел в своего отца, но глаза у него были голубыми, точь-в-точь как у леди Эйзенхарт — и как те, что остались в моих воспоминаниях.