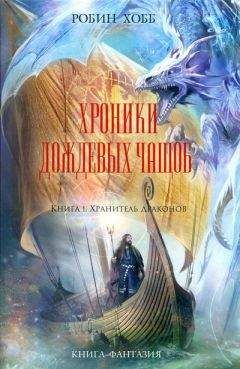Чарльз Де Линт - Лезвие сна
— Но это всего лишь моя подруга Кэти, — забыв об осторожности, воскликнула Иззи.
— Прекрасно! — заорал Рашкин.
Он швырнул полотно обратно, и ребро картины угодило Иззи прямо в живот. Не столько от удара, сколько от удивления девушка потеряла равновесие и упала на спину.
— Забирай свою картину! — кричал Рашкин. — И сама убирайся вместе с ней. Но не вздумай приползти назад. Ты меня поняла?
Иззи схватилась руками за живот и даже не сделала попытки подняться. Ее с ног до головы сотрясала неудержимая дрожь.
— Я... я не хотела...
— Не смей мне возражать!
Внезапно Рашкин стремительно бросился к Иззи. Она попыталась отползти, но руки и ноги лишь беспомощно скользили по гладкому деревянному полу, а он двигался гораздо проворнее. Носок жесткого кожаного ботинка ударил ей в бок. Иззи пронзила ослепительная вспышка боли, глаза наполнились слезами.
— Как ты осмелилась мне возразить?
Иззи свернулась клубком, но удары обутой в ботинок ноги следовали один за другим. В ушах раздался крик о пощаде, и девушка с трудом поняла, что кричит она сама. Внезапно удары прекратились.
— О боже, — воскликнул Рашкин. — Что я наделал? Что я наделал?
Иззи попыталась отстраниться, но он встал рядом с ней на колени, прижал девушку к груди и уже не мог говорить, только неразборчиво бормотал и всхлипывал.
Эта сцена длилась довольно долго, но наконец руки Рашкина немного ослабели и Иззи смогла освободиться из его объятий. Она отодвинулась, но чувствовала такую слабость, что не решалась подняться. Всё туловище и ноги ныли от ударов, каждое движение отзывалось новой болью. Даже дышать ей удавалось с трудом.
Иззи очень хотела побыстрее убраться отсюда, но она смогла лишь обхватить себя руками и сквозь непросохшие слезы смотрела на жалкую фигуру коленопреклоненного художника.
Он уперся руками в пол и низко опустил голову. Всхлипывания прекратились, но, когда Рашкин поднял глаза, на его щеках блестели слезы.
— Тебе... лучше уйти, — сказал он хриплым, прерывающимся от волнения голосом. — Я настоящее чудовище и недостоин находиться с тобой рядом. Господи, почему ты так долго меня терпела?!
— Почему... — попыталась заговорить Иззи, но сначала ей пришлось вытереть нос рукавом и откашляться. — Почему вы меня ударили?
Рашкин покачал головой:
— Если бы я только знал. Я... я временами впадаю в такую безудержную ярость, которую можно сравнить только с потребностью писать картины. Иногда я считаю, что это темная сторона моего вдохновения — отчаяние и стремление разрушать.
Рашкин всё так же не отрывал глаз от лица Иззи, но на некоторое время замолчал. Услышанные признания только еще сильнее смутили ее.
— Я догадываюсь, о чем ты сейчас думаешь, — наконец продолжил художник, опуская взгляд. — Я ищу оправдание своей жестокости. Но во время приступов ярости я не контролирую свои поступки, я не принадлежу себе. Словно какое-то чудовище просыпается в моей душе, и мне остается только оплакивать то, что оно натворит. — Рашкин медленно поднялся на ноги. — Тебе лучше пойти домой. Хочешь, я вызову такси, или... может, тебе необходимо показаться врачу?
Иззи отрицательно покачала головой. Она чувствовала себя совершенно разбитой, и всё тело ныло от боли, но перенести осмотр врача и лишние вопросы ей было не по силам. Как она сумеет объяснить, что с ней произошло? Это будет так унизительно!
Рашкин сделал шаг в ее сторону, и девушка вздрогнула, но тот только поднял картину, уложил ее в рюкзак и застегнул пряжки. Когда художник приблизился еще на один шаг, она удержалась от дрожи и постаралась самостоятельно подняться с пола. Рашкин не предложил ей помощь. Он молча ждал, пока Иззи набросит пальто, потом протянул ей сумку.
— Этот... этот пейзаж, — произнесла Иззи.
— Пожалуйста, возьми его с собой. Он твой. В картине есть своеобразный шарм, надеюсь, она понравится твоей подруге.
Иззи кивнула.
— Спасибо, — сказала она, нерешительно помедлила, потом спросила: — Могу я задать вам личный вопрос?
— Конечно.
— Вам никогда не приходило в голову... обсудить с кем-то проблемы вашего характера? Может, доктор...
Она была почти уверена, что разразится следующий приступ ярости, но Рашкин только покачал головой.
— Посмотри на меня, — произнес он. — Я и внешне выгляжу как чудовище. Почему же внутри должен быть другим?
Иззи внимательно посмотрела на художника и с удивлением обнаружила, что продолжительное знакомство изменило ее первоначальное впечатление. Он больше не казался ей уродливым. Он был просто Рашкиным.
— Вовсе необязательно, — возразила она.
— Если ты действительно в этом уверена, я попробую.
— И вы примете помощь?
— Считай, что я пообещал, — кивнул Рашкин. — И спасибо тебе, Изабель.
— За что вы меня благодарите?
— За твое милосердие после всего, что я натворил.
— В таком случае, — сказала Иззи, — я буду продолжать приходить в студию.
— Не думаю, что это разумное решение. Доктор может оказаться бессилен, но даже если он поможет, нет никакой гарантии, что чудовище не будет вновь просыпаться, пока продолжается лечение.
— Если вы и впрямь намерены заняться собой, я тем более должна приходить. Я не могу позволить вам одному пройти через это.
Рашкин удивленно поднял брови.
— Ты так же благородна, как и талантлива, — сказал он.
На этот раз Иззи опустила голову, яркий румянец залил всё ее лицо.
— Я сегодня же позвоню своему врачу, — продолжал Рашкин. — Он направит меня к соответствующему специалисту. И всё же, я считаю, что мы должны расстаться хотя бы на несколько недель.
— Но...
Рашкин улыбнулся и погрозил ей пальцем:
— Ты слишком напряженно работала и заслуживаешь отдыха. Можешь вернуться после Нового года.
— С вами всё будет в порядке?
Рашкин кивнул:
— Если ты так в меня веришь, иначе и быть не может.
Следующий поступок Иззи изумил ее саму не меньше, чем Рашкина. Едва ли сознавая, что она делает, девушка шагнула вперед и поцеловала его в щеку.
— Счастливого Рождества, Винсент, — сказала она и скрылась за дверью.
IIНьюфорд, май 1974-гоВ пятницу вечером в закусочной Финни было шумно и многолюдно. В воздухе плавали клубы дыма, и не только от табака. На сцене группа из четырех человек под названием «Кулаки» наигрывала попурри из ирландских мелодий, и небольшая площадка для танцев была до отказа заполнена молодыми людьми, исполнявшими некоторое подобие рила. Своеобразная интерпретация ирландского степа сопровождалась громкими одобрительными криками.
Иззи присоединилась к Кэти и Джилли, сидевшим за одним из столиков у задней стены, и некоторое время они все вместе просто слушали музыку, поскольку разговаривать в таком шуме было совершенно невозможно. Только когда музыканты удалились на перерыв, девушки смогли расслышать друг друга. Получив от официантки заказанный кувшин пива, они начали спорить о преимуществах и недостатках обучения в университете Батлера по сравнению с уроками у одного из состоявшихся художников. Иззи, единственная из всех троих, попробовавшая оба варианта, неожиданно для себя стала развивать одну из теорий Рашкина, что вызвало обвинение в пропаганде элитарности со стороны обеих ее подруг.
— В этом заключается ошибочность утверждений Рашкина, — говорила Джилли. — Никто не может оценивать искусство. Не существует никаких надежных критериев. Когда ты обращаешься к своему сердцу и не кривишь душой, ты в результате получаешь истинный шедевр. Пусть он необязательно кажется шедевром всем остальным, но в него вложено самое лучшее. Я считаю, это справедливо для любого вида творчества.
— Аминь, — заключила Кэти.
— Но без надлежащего владения техникой у тебя нет возможности даже пользоваться инструментами.
— Конечно, — согласилась Джилли. — Я говорила не об этом. Каждый может изучить технику, как и историю искусства и теорию живописи. Но нельзя научить человека должным образом применять полученные знания. Нельзя объяснить другому художнику, что именно он должен чувствовать своим сердцем и что должен выразить в своем произведении.
— Ты имеешь в виду талант, — сказала Иззи.
— Точно. Можно бесконечно развивать имеющийся талант, но научить ему нельзя.
По прошествии девяти месяцев Иззи почувствовала, что приближается в своих работах к овладению таинственным секретом Рашкина; она ощущала, как что-то словно открывается в ее душе, как будто с холста спадает пелена, и картина создается сама собой. И еще пришлось признать правоту утверждения Рашкина об особом наречии, необходимом для объяснения этого явления. Иззи пыталась поделиться новыми знаниями со своими подругами, особенно с Джилли, поскольку та тоже занималась изобразительным искусством, но в разговоре убедилась, что подруги не воспринимают лексикон, которым она овладела в процессе обучения у Рашкина. А без этого она только тщетно пыталась подыскать замену несуществующим словам.