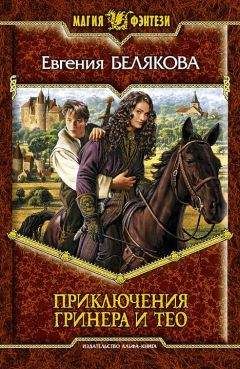Евгения Белякова - Король-Бродяга (День дурака, час шута)
И вот я мчусь по замку, шныряя под ногами у служанок; они суетятся, размахивают метлами и тряпками, натирая воском полы и снимая паутину по углам — скоро должен приехать мой отец, король. Наслушавшись вдоволь обидных высказываний по поводу моей внешности ('Его в при рождении подменили, на самом деле это кобольд') и поведения ('Ох, хоть бы он поскорее вырос и его подстрелили на охоте, житья от него нет') я выбираюсь из замка во внутренний двор. Говорили они все это, конечно, тихо и преимущественно за моей спиной, но слух у меня был как у волка, и я все слышал и понимал. Сначала расстраивался, что меня никто не любит, потом, после разговора с отцом (он часто вел со мной 'взрослые' беседы), уяснил, что любовь — это не то чувство, какое король должен вызывать у своих подданных. 'Страх и уважение, вот что', - сказал отец.
Во дворе я играл не часто. Во-первых, там могли поймать за ухо и отвести на учебу, к старенькому и подслеповатому храмовому жрецу, во-вторых, там обитали звери. Я имею в виду своих сверстников.
Дети — самые жестокие создания на свете. Они не знают, что такое жалость и милосердие. Четкая иерархия, отличная от взрослой, но все же чем-то на нее похожая: сильные и здесь притесняли слабых. Я же был среди них отщепенцем. Да, да, сын короля, принц, сам будущий король — был изгоем. Ничего в открытую, все исподволь и с гаденькой улыбочкой; жаловаться отцу мне не позволяла гордость, а к матери, даже если бы она не уезжала так часто 'поправить здоровье на запад', я бы все равно не обратился. Лишь один раз я сказал отцу, что меня бьют — получил затрещину и уверения в том, что 'уж он то в мои годы не дал бы себя в обиду', и вообще, 'набей им морды, сынок, а не бегай за защитой ко мне'. Да, отец мой, когда хотел, мог изъясняться, как лавочник самого низкого пошиба, для ясности. Я понял урок — и с этого дня просто избегал компаний сверстников.
Двор большой, ведь там должны поместиться и повозки с продуктами, и солдаты, и дети, и женщины, развешивающие белье, и само белье и еще много всякой всячины. В нем было множество укромных уголков, где я прятался — и наблюдал за тренировками стражников. Нет, у меня и в мыслях не было стать рыцарем, взять в руки меч и спасти хотя бы одну, даже пусть захудаленькую принцессу; я просто получал удовольствие от одного вида боя. Вдох, выдох, надсадное сипение, напряжение мышц и короткие возгласы, вырывающиеся из воспаленных легких; пот и кровь, унижение и победа в глазах, звон оружия о щиты и смачное чмоканье, когда меч проникает в плоть. Да, там были и смертельные случаи: раз в году желающие могли прийти в замок и попытать счастья, попробовать записаться в воины. Таких новичков обычно испытывали на прочность, и испытывали очень жестоко — иногда они уходили посрамленными, но целыми, иногда покалеченными, но живыми, а иногда и вообще не уходили. Их отвозили в город на специальной телеге, которой правил наш палач, Кхот. Его, я, кстати, боялся до одури. Маленький, щуплый, но сильный, как сто дубов, весь чуть перекошен, и глаза у него были чудные. Светло-серые, почти белые, по краю радужки идет черный ободок, а зрачок — как провал в никуда. Меня он обычно называл 'отпрыском королевской крови', и, когда лохматил мне вихры, я испытывал почти непреодолимое желание сходить в туалет. Прямо там.
Но я все о другом, о другом, ухожу в воспоминаниях совсем не туда; меня интересует тот день… тот самый день, когда я узнал, что такое смерть.
Был маленький проем между стеной, окружавшей замок, и какой-то хозяйственной постройкой; гнилые отбросы, я ходил по ним столь часто, что перестал замечать, как мои сапожки из мягкой кожи размазывают по земле кашицу из гнилых овощей и помоев… Там, за проходом, закуток — небольшое пространство, со всех сторон стены, и старая вишня. Я как раз бежал туда, предвкушая, как буду лакомиться спелыми темными ягодами, как что-то впереди привлекло мое внимание.
Сначала я подумал, что это какой-то сверток. Мокрый, воняющий сверток, что-то вроде завернутых в холстину внутренностей свиньи. Некоторое время смотрел на него, не в силах понять, что же привлекает меня в нем, что тянет ближе, посмотреть, пощупать… Шаг, второй — и я уже совсем рядом, а понимание никак не приходит ко мне, у меня словно витражное стеклышко в руках; знаете, когда берешь цветной осколок, подносишь к глазам, и все вокруг становится зеленым, или красным, и, пока не уберешь его, не поймешь, каков истинный цвет окружающего тебя мира. Я стоял спокойно и расслабленно, опустив руки, прямо перед этой кучей — и тут вдруг понимание настигло меня, как терьер — крысу, я увидел, что лежит передо мной… Труп собаки. Шерсть настолько пропиталась кровью и свалялась, что сначала почти непонятно, что это шерсть; лапы чуть скрючены, голова неестественно вывернута. Это Болки, дворовой пес, милейшей души создание, всегда ласковый, виляющий хвостом и в собачьей наивной радости лижущий руки любому прохожему теплым языком. Сейчас язык его высунут, самый кончик торчит меж зубов, на морде то ли пена, то ли блевотина, что-то грязно-зеленое. Я не мог признать в нем, в этом свертке — Болки, и в то же время знал какой-то своей частью, что это он; но ведь существует огромная разница между этим Болки и тем — нет, это не он! — тот живой, а этот словно бы слился с землей в своей тварности, местами окоченелый, местами обвисший, как тряпка. И эта разница, колоссальная разница двух миров — тем, в котором псы живые и радостно грызут кости, и этим, где они валяются мертвыми на помойке, со вспоротым брюхом, сдавила мне голову, как клещами. Я невыносимо сильно хочу обратно, туда, в ТОТ мир, но понимаю, что он безвозвратно ушел. Я не плакал, нет, я даже не изменился в лице, но что-то во мне изменилось навсегда.
Я похоронил его под своей вишней. Не могу сказать, что очень уж любил его — не больше и не меньше, чем всех остальных псов в замке, коих было превеликое множество, он не был МОЕЙ собакой, если вы понимаете, что я имею в виду, но он был живым существом, которое стало мертвым, а это, как мне тогда казалось, обязывает… хоть к чему-то. Я был ему благодарен — за то, что он показал мне, что такое смерть, и за это же его ненавидел.
Когда я закончил, уже начинало смеркаться; я выбрался во двор, весь грязный, липкий от пота и уставший, как сто чертей. Неподалеку стояли два стражника, вполголоса переговариваясь, и сквозь пелену усталости и торжественности я услышал их разговор.
— Маленькие поганцы…
— Ты о чем?
— Разве не слышал? Я отошел буквально на пять минут отлить, а они стащили мой меч и стали изображать из себя рыцарей, сопляки. Гоняли какую-то псину по двору, тыкали в нее мечом, гикали, как полоумные, особенно сынок графа.
— И что, пса зарезали?