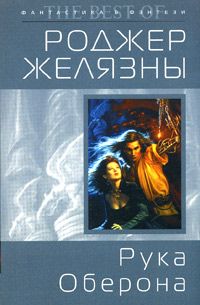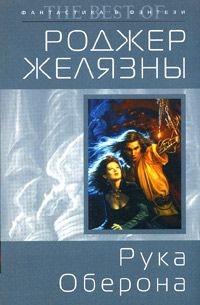Роджер Желязны - Рука Оберона
— Я не знаю как. Я знаю, как добраться сюда, но…
— В соседней комнате в столе есть специальные, любого типа, Козыри. Найди свет! Уйди! Проваливай отсюда!
Я было запротестовал, что ничего не боюсь, но черты лица его поплыли, как плавящийся воск, Дваркин стал казаться больше, и руки, и ноги вытянулись. Подхватив лампу, я смылся из комнаты, внезапный холод окутал меня.
…К столу. Я рванул ящик и выхватил несколько Козырей, которые россыпью лежали внутри. Затем я услышал чьи-то шаги — шаги того, кто вошел в комнату вслед за мной из помещения, откуда я только что выскочил. Они не были похожи на шаги человека. Хотелось оглянуться. Но вместо этого я поднял перед собой карты и всмотрелся в ту, что оказалась сверху. Картинка была незнакомой, но я немедленно сосредоточился и потянулся к ней. Горный утес, нечто вдалеке за ним, странно разрисованное небо, россыпь звезд слева… От моего прикосновения карта становилась попеременно то горячей, то холодной, и, пока я вглядывался, словно тяжелый ветер подул сквозь нее, каким-то образом перестраивая перспективу.
Вдруг справа из-за спины раздался сильно измененный, но все еще узнаваемый голос Дваркина:
— Дурак! Ты выбрал землю своей роковой судьбы!
Огромная клешнеобразная рука — черная, кожистая, узловатая — протянулась над моим плечом, словно пытаясь вырвать карту у меня. Но путь был уже открыт, и я обрушился в видение, отвернув карту от себя, лишь когда сообразил, что побег уже состоялся. Затем я притормозил и встал как вкопанный, подгоняя чувства к новому месту действия.
Я узнал новую сцену. Из обрывков легенд, случайных семейных слухов, а в основном из навалившегося на меня ощущения я узнал край, куда явился. И в полной уверенности в том, что предстанет моим глазам, я поднял взгляд, чтобы увидеть Дворы Хаоса.[13]
VI
Где? Чувства — столь ненадежная вещь, а мои к тому же блуждали далеко за границами своих возможностей. Скала, где я стоял… Если я хотел сосредоточить взгляд на ней, она прикидывалась асфальтом в жаркий полдень. Казалось, она покачивается и движется, хотя ступни мои не ощущали колебаний. И скала еще не успела решить, с какой частью спектра поддерживать родство. Поверхность пульсировала и вспыхивала, как шкура игуаны.[14] Глянув вверх, я узрел такое небо, к какому никогда еще не обращал взора. В этот миг оно было расколото пополам — половинка глубочайшего черного ночного небосвода, и звезды танцевали там. Когда я говорю танцевали, то не имею в виду мерцание; звезды откалывали антраша, они меняли блеск; они шмыгали туда-сюда и кружились; они полыхали сиянием новых, а потом блекли и гасли. Смотреть на это было страшно, и мой желудок сжался, словно в мощном приступе акрофобии.[15] И все же то, что я перевел взгляд, слегка улучшило ситуацию. Вторая половина неба была подобна бутылке с цветным песком, которую постоянно встряхивали; полосы оранжевого, желтого, красного, синего, коричневого и пурпурного поворачивались и скручивались; лоскуты зеленого, розовато-лилового, серого и мертвенно-белого появлялись и исчезали, иногда расслаивались в полосы, или замещая их, или воссоединяясь с прочими корчащимися субстанциями. И все вместе тоже мерцало и волновалось, создавая невероятные ощущения удаленности и близости. Иногда, по частям или целиком все это казалось буквально высшими небесами, а затем вновь воздух передо мной наполняли расплывчатые, прозрачные лоскуты тумана, полупрозрачные полосы или плотные щупальца густого цвета. И только потом я сообразил, что линия, отделяющая черное от цветного, медленно приближается ко мне справа, в то же время отступая слева. Было так, будто вся небесная мандала[16] как единое целое вращалась вокруг точки прямо над моей головой. Что до источника света более яркой половины, местонахождение его просто нельзя было определить. Стоя на скале, я посмотрел вниз на то, что сначала казалось наполненной бессчетными вспышками цвета долиной; но когда надвигающаяся тьма изгнала это зрелище, звезды затанцевали и зажглись в ее глубинах, как и наверху, создавая впечатление бездонной пропасти. Было так, будто я стоял на краю мира, на краю Вселенной, на краю всего. Но далеко, далеко от той точки, где я стоял, что-то парило над горой чистейшего черного цвета — сама чернота, но окаймленная и смягченная едва различимыми вспышками света. Я не мог оценить размеров, ибо расстояние, глубина и перспектива отсутствовали. Отдельное сооружение? Группа зданий? Город? Или просто местность такая? Очертания варьировались каждый раз, как только их изображение попадало на сетчатку глаза. Сейчас в воздухе между мной и целью плавали, изворачиваясь, легкие туманные простыни — словно дымка длинными полосами поднимается вверх разогретым воздухом. Развернувшись на сто восемьдесят градусов, мандала замедлила вращение. Теперь цветная зона находилась позади меня и была незаметна, если я не поворачивал головы — чего делать не было никакого желания. Приятно было стоять там, глядя на бесформенность, из которой в конечном счете возникло все… Она существовала еще до появления Образа. Я знал это, нечетко, но истинно, самим ядром сознания. Знал это, потому что был уверен: я бывал здесь раньше. Ребенку, из которого я вырос, казалось, что когда-то давным-давно меня приводили сюда — либо Папа, либо Дваркин, не могу вспомнить, — и я стоял или меня держали на руках, здесь или в каком-то очень похожем мире, и я смотрел на ту же самую сцену с таким же непониманием и таким же ощущением способности постичь. Удовольствие было слегка подкрашено нервным возбуждением, чувством запретного, ощущением зыбкого понимания. Странно, но в этот миг у меня возникло желание взять в руки Талисман, который я был вынужден оставить в куче компоста на тени Земля, — вещицу, которую для столь многого предназначал Дваркин. Может, какая-то часть меня искала защиты или по меньшей мере символа сопротивления тому, что могло бы вырваться отсюда? Вероятно.
А пока я, изумленный, продолжал вглядываться через пропасть, случилось так, что глаза приспособились или перспектива опять чуть-чуть сместилась. Теперь я различал крошечные, призрачные формы, двигающиеся на том краю бесконечности, словно метеоры, медленно перемещающиеся в полосатом мареве. Я ждал, настороженно разглядывая их, пытаясь хоть что-то сообразить по действиям, которые они производили. Наконец одна из полос подтекла очень близко. И вскоре я получил ответ.
Это было движение. Одна из стремительно двигающихся фигурок стала больше, и я сообразил, что она следует по извилистому пути, ведущему ко мне. Всего лишь за несколько мгновений она приняла пропорции всадника. Приближаясь, он обрел подобие плотности, не потеряв призрачности, присущей, казалось, всему, что лежало предо мной. Мгновением позже я увидел обнаженного всадника на безгривой лошади — оба смертельно бледные, — мчащегося в моем направлении. Всадник размахивал белым, как кость, клинком; его глаза и глаза лошади полыхали красным. Я так и не понял, увидел ли он меня, существовали ли мы в одном пласте реальности, — так неестественна была его наружность. И все-таки, как только он приблизился, я вынул из ножен Грейсвандир и сделал шаг назад.