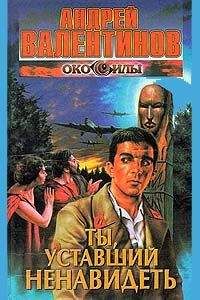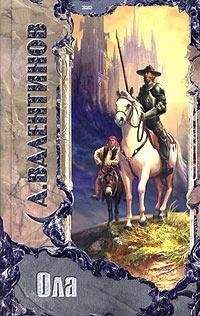Андрей Валентинов - Рубеж
Задумался сотник Логин. В затылке почесал. Нет, не слышал. И в синагоге отродясь не бывал. Вот дьяк Фома Григорьевич, нюхнувши доброго табачку, — тот и впрямь любил в сотый раз излагать, как Христос-Спаситель гнал бесей из одержимого, гнал, да в свиней, в свиней!..
Это было.
(«…учителя Торы! ревнители вер иных! знатоки смыслов!» — ворчит старый, очень старый человек, и я знаю: он действительно сердит. Ему, способному сказать между делом: «Четверо ненавистны Святому, благословен Он, и я их не люблю…» — о да, ему по сей день втайне хочется признания у банальных соседей по улице, ему хочется их восторгов, рукоплесканий вместо тайных плевков вслед, когда рав Элиша мирно трусит по улочке на своем осле.
Он знает: это смешно. Это тщета.
Это ловля ветра. Он знает, и все равно хочет; и все равно будет, посмеиваясь над самим собой, втайне желать этого до самой смерти…)
Остановилось креслице.
— В свиней? — меламед хренов в упор выпялился на Логина, и кажется: душу сей взгляд наизнанку, как прачка холщовую свитку, выворачивает. — В свиней можно. Свинья — тварь грязная, неразумная, в нее бесам двери настежь открыты… То ли дело — человек. Сперва глянешь: чем лучше свиньи? — да ничем! Где образ Его? где подобие?! А приглядишься, протрешь глаза: нет врага человеку, нет друга, нет насильника, и спасителя нет! Сам он себе и враг наизлейший, и друг верный, и насильник опасный и спаситель долгожданный… Все двери в душу свою только сам открыть-закрыть может. Увидите одержимого, знайте: собой он одержим, не бесами пустыми…
Притихла малышня по лавкам.
Притих сотник Логин, в затылке почесал.
Нелепицу вроде несет жид старый (бесы у него пустые! собой, значит одержим безумец! враки!) — а от той нелепицы в голове ровно сквознячком продувает. Метет пыль по закоулкам, серую паутину комками сбивает, да в окошко, в окошко, по ветру…
Молчи, значит, да на ус мотай.
— О ином скажу: о Малахах Рубежных, о Существах Служения… об ангелах. Свет они есмь, и в мир плотский лишь в одеждах сего мира спуститься могут. Только где ж им взять одежду ту? где найти, помимо плоти человеческой, сотворенной из праха земного?!
«И впрямь, — отметил про себя сотник валковский. — Раз голым из дома на улицу не поскачешь, значит, шаровары потребны. Чтоб срамным Задом не отсвечивать. А где те шаровары взять? — либо в сундуке, либо на ярмарке в Сорочинцах. Правильно говорит дед».
И так Логину мысль сия разумной показалась, что есаул Шмалько исподтишка линейкой по плечам огрел — не заметил.
— Вот тогда и взывает Малах-посланец к иному человеку: услышь! впусти! Ты мне тело на срок малый, я тебе — иной корысти с верхом отвалю! Не часто, а находятся смельчаки — кому терять нечего. Одного казнь смертная на рассвете ждет. Другой болен неизлечимо. Третий душу за родича или там любовь свою положить готов, а сил недостает. Соглашаются; заключают договор со светлым ангелом. А в договоре том сказано: по доброй воле впустил, по доброй и выпущу…
Старец перевел дух.
— А как срок истекает, то не всякий человек подобру-поздорову из себя Малаха отпустит. Кто излечился — вновь захворать пуще прежнего боится. Кто от казни ушел — новой казни ждет. Кто друга спас — сам в беду угодил. А Малах есмь свет, и в ком того света с избытком, тот многое может. Вот и не выпускают люди ангела договорного, не дают на уход своей доброй воли. Побудь еще, говорят, погости ангелом-хранителем. ..
(…голова кружится.
Надо держаться. Вон и Иегуда — весь белый, даже борода словно побледнела… поседела борода, инеем взялась.
Надо.
Держаться.
Иначе они не поймут… иначе мы не поймем.
Рав Элиша, ехидный Чужой, запертый в немощном теле! — помнишь, ты спрашивал меня? Ты спрашивал: могу ли я поменять их местами, свои реальности, внешнюю и внутреннюю, могу ли я вывернуться наизнанку, насквозь — и освободиться полностью?
Ты знаешь, сейчас мне кажется, что — да.
Могу. Ведь «снаружи» и «внутри», в сущности, одно и то же…)
— …побудь еще!.. — Кричит Малах, бьется, исходит светом, как припадочный — слюной. А выйти без разрешения не может. Страшна для него темница плотская. И не идти в мир не мог, если Рубежи велели Существу
Служения: «Иди!» — и остаться в мире боится.
— Чего? — истово выдохнул сотник Логин в повисшей тишине. В гулкой тишине, морозной, зябкой, несмотря на жаркое лето вокруг. — Чего боится-то?!
Непонятно было: пустили, значит, ангела с крылышками, вроде как в хату переночевать, а теперь по доброй воле отпускать не желают. Точно галера турецкая: забрался поплавать и остался — в кандалах да на веслах. Так ведь и с галеры удрать иной раз получается… А тут не галера — человек. Помрет своей смертью, и гулять ангелу по новой в поднебесье… то бишь в Рубеже ихнем.
— Ты это… ты, значит…
Хотел сотник сказать: «Ты, христопродавец, кончай москаля лепить! начал говорить — договаривай!» Хотел, да не вышло.
Заледенел язык. А старый, очень старый человек все смотрит, и все на него, на Логина Загаржецкого и все понимает — и сказанное, и проглоченное.
Нет обиды во взгляде его.
Живой взгляд, блестящий, молодой.
Хитрый.
— А смерти человека-темницы и боится он, Малах Рубежный. После смерти ему ведь в гниющей плоти еще двенадцать месяцев по закону обретаться, до выхода на свободу. Не выйдет ли Ангел — безумцем? свет — тьмой? Прикусил сотник Логин язычок.
До крови. Только и показалось: не стало никого по лавкам. С ним одним старик разговаривает, с глазу на глаз. Из сердца — в сердце.
— Однако смерть телесная не самый страх — самый, он пострашнее будет. Горит свет чужой в сосуде плотском, корчится запертый Малах в человеке — а человек-то его уже потихонечку переваривает душой своей, травит кислотой людских помыслов… Ведь души наши, согласно книге «Зогар», чином выше ангельских уровней созданы. Оттого и не захотели ангелы первому Адаму кланяться; оттого и служат, не любя. Год пройдет, два, третий настанет — забудет Малах-узник себя самого. И не вспомнит.
Старик помолчал.
Губами пожевал.
(…Рав Элиша! еще! Я сам ведь не смогу… не объясню!
Еще!..)
— Был человек, был в нем ангел по договору. А останется навеки: человек-клятвопреступник с лишним, краденым светом внутри. Жить будет — долго. Ворожить — сильно. Из тела в вещь, из вещи в тело, если потребуется, шастать станет, верхом на пламени Малаха-беспамятного. Отец под старость омолодится, сына в расход, да сам сыном и назовется! поживет еще чуток — пока внук не вырастет. А глупцы талдычат в один голос: бесы… одержимые…
Тут Логин старика вроде как слышать перестал.
И видеть перестал. О своем задумался. Не то сон во сне случился, не то еще какая мара навеялась. Грезится Логину, как он по новой в самое пекло собирается, за Яринкой-ясочкой. Да только подходит к нему уже не Рудый Панько, не Юдка-Душегубец со своей пропозицией — ангел небесный является. Серафим о шести крыльях. Ну пусть не небесный, пусть Рубежный — о том ли речь? Является, значит, и глаголет нежным гласом: «Пусти меня, друг Логин, до себя в утробу! Я через тело твое черкасское дельце малое обстряпаю! — да и тебя, родной, не забуду! отслужу!»