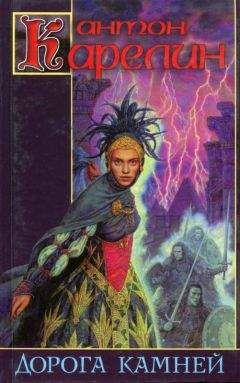Максим Далин - Корона, Огонь и Медные Крылья
— Все в руках Нут, — говорю, так спокойно, как смог. — Как лягут кости, так и будет.
У нее одна слеза перелилась через край и потекла через белую щеку. Тогда я подумал — мы проедем в часе-двух пути от Хуэйни-Аман. И если я совершенно ничего не сделаю, то не смогу дальше жить.
— Не надо, Яблоня, — сказал я тогда и вытер ее щеку своим рукавом. — Слезы не помогут рабыне, только развеселят ее врагов. Улыбайся. Ты же царевна.
И она — улыбнулась.
* * *Иерарх Святого Ордена долго не хотел благословить мое решение. Не одобрял. И вдобавок давил на моего отца, писал ему, что не одобряет. К старости он стал страшным занудой.
Благословил, когда утонул корабль соседей. Отверзлись его духовные очи — и до него дошло, наконец, что уже и сам Господь посылает знамение. Отличное знамение, доходчивое. И дураку ясно: свадьбе не бывать, надлежит заниматься более важными делами. Неужели у наследного принца, прах побери совсем, не может быть более важных дел, чем вся эта возня с заботой о престолонаследии?
Я слова "престолонаследие" уже слышать без рвоты не могу!
Одна уже утонула. Все, пора оставить это дело на некоторое время! Нет, им неймется!
Соседи начали слать портреты возами. И его светлость Оливер, старый гриб, любимчик отца, чуть ли не каждое утро торчал у меня в приемной с очередной намалеванной картиной. Целая толпа принцесс — и всем неймется, не угодно ли? Принцесса Заозерья. Даже по портрету видно, хоть и зализали до невозможности: толстая, рыжая и щеки нос задавили. Инфанты Белогорские, старшая и младшая. У них вообще грудей нет, что ли? Даже фантазия живописца не спасает: младшая — простая доска, старшая — стиральная. Еще одна штучка со Скального Мыса. Глазки в кучку, носик остренький, как у мышки. Вот интересно, у этой ноги одинаковые или тоже разной длины?
Из Междугорья прислали портрет. Красивая… Спасибо. У этой в роду — ведьмак. Как ляжешь — так и вскочишь. Затянута в корсаж, как в мундир, но все равно видно, какова грудь. Ранние яблочки. Смотрит прямо, глаза синие, прозрачные, усмешечка, губы яркие… общее выражение — "не хотите ли яду полной ложкой, ваше высочество?" Портрет я оставил у себя, но жениться на такой — нет уж. Женитесь сами. Пусть она вас травит или нанимает убийц. Или — вообще продает Тем Самым с потрохами. И еще неизвестно, кого такая родит.
Представляете, дамы и господа, сынок — богоотступник?! Любитель мертвечинки, а?! Тебя же и прикончит, когда подрастет — там, в Междугорье, говорят, бывали прецеденты.
Короче говоря, я отбрыкивался, как мог, а отец давил, так, что не продохнуть. Такая тоска! Только я успел обрадоваться, что больше никаких обязательств на мне не висит, как целая толпа придворных холуев уже понеслись со всех ног, спотыкаясь и падая — вешать на меня всех собак. Надоело.
Невозможно, в конце концов, все время ждать у моря погоды.
Самое мерзкое, что все эти шлюшки — даже, представьте себе, баронессы! — начали на меня лакомо поглядывать. "Ах, ваше прекрасное высочество, я так сочувствую вашему горю! Я всей душой скорблю вместе с вами!" Какой душой? О женщине нельзя сказать "скорбит душой" и "думает головой" — за неимением того и другого!
Эти дуры решили, что у них появились шансы — выйти замуж за принца! Издохнуть! Все эти сучки младше двадцати начали носить декольте вдвое глубже. Свора на охоте. Ну я и показал им охоту.
Одной сказал: "Хочешь, чтобы я тебя любил, душенька?" — и она тут же покраснела, опустила глазки и мнет платочек: "Ах, ведь без благословения Господь накажет"!" Ах, вот как? Ну нас и благословил Альфонс, почти правильными словами, гнусаво и очень похоже. За это я ему ее потом подарил. Когда она уже устала слезы лить и дергаться, а мне стало противно.
Второй написал письмо. Мой отец, мол, любимая, никогда не позволит настоящей свадьбы — поженимся тайно, священник предупрежден. Приходи к дворцовой часовне, в полночь, одна.
Она с матушкой приволоклась, представляете, дамы и господа! Чтобы ее матушка нас благословила за моего отца! Вы можете себе представить такую безнравственную и напыщенную дрянь? Эта старая визгливая свинья собиралась благословить принца за короля! У меня от такого оскорбления, почти государственной измены, случилось явственное желание приколоть их обеих — уцелели только потому, что я их пожалел. Женщины все-таки… Старую свинью бароны прикрутили к дереву, а молодую я… потом тоже отдал баронам. И мы даже не рассказали об этом в свете — исключительно из милосердия.
Третья крутила-крутила передо мной хвостом, но на свидание не пришла. Написала записку, ах, ей не позволяет добродетель. Добродетельная. Намекать своему принцу известно на что, а потом изобразить вестника Божьего?! Мы эту добродетельную подкараулили в уютном месте, завязали юбку у нее на голове и как следует ей объяснили, что такого рода кокетство — это совершенно аморально. Добродетельна — не хихикай с мужчинами и носи закрытые платья!
Это ее братец потом ткнул меня ножом. Как раз в тот день, когда жгли некромантку, прямо на площади. Представляете, дамы и господа, гад даже не попытался меня вызвать на поединок или еще как-нибудь проявиться — просто, когда встретились на площади, кинулся и все. Ничего у него, разумеется, не вышло, только поцарапал. У меня хорошая реакция и я не трус, вот что, а этот увечный умом думал, что я буду стоять столбом! Да его тут же скрутили бароны — они бы его в клочья порвали, если бы я не остановил. Уже стража неслась, распихивая толпу — но я все равно спросил, отчасти из благородства, отчасти — просто чтобы понять:
— Ты, падаль, как же сумел настолько забыть дворянскую честь, чтобы нападать со спины, как последний выродок?
Жерар сунулся ко мне с платком, лица на нем не было:
— Ну что вы, прекрасное высочество, бросьте — кровь у вас! — но я его отстранил. Было жутко интересно, что этот смертник скажет. Он и высказался:
— Небо не позволит тебе стать королем! Таких, как ты, убивают без церемоний… — но на этом месте его заткнул командир стражи — видимо, перепугался, что иначе я прикажу перезатыкать всех, кто это слышал. Навсегда.
Я не стал спорить. Я понял, что ничего по существу он не скажет, а слышать только грязные оскорбления из обычной злобы не было никакого резона. И когда мне сказали, что отцу обязательно надо сообщить, тоже уже не спорил.
А отец, вместо того, чтобы хоть чуть-чуть снизойти, наорал. Даже вспоминать не хочется.
Мои приключения не доведут меня до добра. Я не знаю, куда себя деть от безделья. Пусть я немедленно отошлю эту мерзкую собаку, которую я готов таскать с собой даже в храм Божий. Я безнадежно глуп и безнадежно упрям. Меня надлежало бы выпороть хлыстом. И — "помолчите, Антоний, вы слишком много болтаете!"