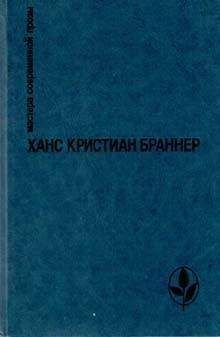Наталья Рузанкина - Возвращение
Пергаментный нос приобретает хищные очертания, в крохотных сорочьих глазках — подобие усмешки.
— Ох уж эти аферы Полетаевой! Больничный-то, надеюсь, будет?
— Будет, всё будет, Лира Николаевна. Плохо ей, честное слово!
Черно-Белая со всхлипом вздыхает, сжимая в мумифицированных пальцах «Голос института», театрально-жалостливо косится на меня, доверительно склоняется над столом.
— Я не понимаю, Леванцова, как ты можешь общаться с подобной личностью. При отсутствии…
…Золотые пылинки продолжают танцевать в луче, изумрудные тени становятся глубже, ярче, ветер луговой, цветочный, приправленный свежей морской горечью, касается моего лица, мир первородный, ошеломительный в своей красоте и безгрешности, стоит на пороге, а в зеркале напротив я вижу ненавидящие мертвые глаза моего одиночества. Прощай, мой неотступный друг, ты больше не властен надо мной, ибо вспомнила я о Родине и о Первой любви своей…
— …при отсутствии должных деловых качеств и моральный облик ее оставляет желать лучшего. Все эти бары, рестораны, подозрительные знакомства! А туфли, а украшения! Ее ведь кто-то спонсирует…
…Ты знаешь, Бессмертная Любовь моя, а я сделала первый шаг на пути к нашей Родине. Та приснившаяся мне дорога, дорога к нашему дому была соткана из страдания, страдания дорогих мне людей, и я уничтожу их боль, я принесу им радость и жизнь, мне не тяжело это бремя, и, верно, много тяжелее и опаснее твой путь.
* * *— Чего эта плесень от тебя хотела? — в пыльном коридорном закутке у распахнутого окна мы с Сашкой курим в душный пылающий вечер, провожая взглядом пеструю говорливую реку студентов.
— Так… Продвижение по службе обещала, если дружить с Леркой брошу.
— Она-то всех бросила, тварь… — Сашка с остервенением тычет бычком в консервную банку-пепельницу, примостившуюся на облупленном подоконнике, рот коверкает брезгливая усмешка. — Всех. Друзья, те, кто из бывших начальничков, да подруги спившиеся банные — для нее уже не компания.
Я киваю. Вылетев из Минздрава, где она возглавляла какой-то отдел, за чудовищные взятки, Черно-Белая отделалась легким испугом и, по звонку влиятельной родни подобранная ныне покойным ректором института, редкостным психопатом, осатанённо кинулась на штурм вершин еще неведомого ей издательского дела, к вящему ужасу всех, кто что-либо смыслил в нем…
— Как ты?
— Да потихоньку… Карантин закончился, Тёмку отвезла. Тут он просил передать… Тебе…
Из цветной целлулоидной папки — рисунок: двое, взявшись за руки, средь необозримого цветущего луга. Я сглатываю тугой колючий комок.
— А это — тебе…
Уголок газетного пакета надорван, в глазах — неверие, изумление, испуг.
— Даш, но это же…
— Доллары, доллары. Теперь хватит и на проезд, и на лечение.
— Даш…
— Да не смотри ты так! Никого не убила, не ограбила, наследство получила. Бери, бери, пока дают, на мою долю осталось.
— Я не могу…
— Через не могу! Да, и спрячь подальше, чтобы отморозок какой не приметил… Да забирай, не кривляйся! А если неудобно, внуши себе, что в долг взяла!
— Я же этот долг в жизни не выплачу!
— И не надо! Тогда внуши, что это — подарок. Ну, пока, мне еще к Лерке надо забежать.
Оставляя позади потрясенную Сашку и спускаясь по институтской лестнице, я чувствую необыкновенную легкость и понимаю, что первый шаг на пути к Долине сделан.
* * *Пропахшая кошками душная сырость Лерочкиного подъезда, маслянистые, исцарапанные гвоздем стены, оплавленные кнопки лифта… Моя последняя жизнь, как ты изуродована мерзостью, отравлена разрушением, твоя торжествующая некрасивость мучает меня жесточе, чем мое тысячелетнее одиночество. Струя леденящего холода остро пробегает по спине, страх, мгновенный, оглушительный, рвет сердце, заполняет всё вокруг, и я застываю на полпути, боясь обернуться, ибо там, за спиной — присутствие, присутствие чудовищного зла.
Меж пушистых от пыли стекол лестничного пролета — серое тоскливое кружево паутины и золотым крылатым цветком — погибшая стрекоза. Я на миг закрываю глаза, а затем опрометью бросаюсь к рыжей дерматиновой двери и отчаянно терзаю звонок. Тает, тает в сыром знобящем сумраке незримая лукавая усмешка, по-кошачьему легки и невесомы запредельные шаги, но я узнаю тебя, Пыльная Тень. Ты ждешь свою жертву…
— Ты чего трезвонишь?
Лерочка, бледная до синевы, с воспаленными запавшими глазами и обметанным ртом, в зеленом «яблочном» халате невесомо раскачивается в дверном проеме, как некое подводное растение, и я с трудом перевожу дыхание. Ее дерзкую, радостную, всепобедную красоту будто исказило, изуродовало что-то, лицо тронула печать отрешенной усталости, в живом искрящемся взоре насмешницы и сумасбродки — черная тоска.
— Что с тобой?
— А фиг знает… Анемия вроде, еще головокружения эти чёртовы… Да ты заходи.
Грязно-бежевая теснота крохотной прихожей, коллекция нэцкэ на пыльном подзеркальнике, глиняный оберег, прицепленный к абажуру…
— Нужно что-нибудь?
— А у меня всё есть, — Лерочка, так же пугающе покачиваясь, направляется в кухню, отодвигая бамбуковую занавеску. Кухня ошеломляет своей заполненностью, улыбается коробками ярких соков, йогуртов, дымчатым глянцем винограда, упаковками мюслей и «Кремали» — любимого Лерочкиного печенья.
— Вот, Роман привез. Понаволок, а меня от всего воротит, я ни на что глядеть не могу.
В комнате — герани, умирающие на окнах, пыльные жеваные занавески, ковер под слоем мусора, мутное, в белесых разводах зеркало, прокисший чай в бокале с отбитой ручкой.
— Лер…
— А, надоело всё! Да ты садись.
По клетчатым скомканным простыням кровати — книги. Моуди «Жизнь после смерти», Резанов «Танатология — наука о смерти», стопками — диски: «Дорога в ад», «Полночный ужас»…
Лерочка, поджав синюшные ноги, сидит на тахте, и в лице ее, былом прелестном лице, так странно изменившемся за две недели — болезненная отрешенность и пугающая улыбка.
— Ты всё это читаешь и слушаешь?
— Роман привез…
— Ни фига себе лечение!
Я оглядываю мусорную тесноту комнаты, и к сердцу подступает ярость и омерзение.
— Он на голову не падал, этот твой Роман?! Это же додуматься надо! Дай-ка я весь этот срач…
— Не трогай! — в душной мусорной убогости комнаты становится еще душнее от какой-то темной, тяжелой злобы, что начинает излучать Лерочка, злобы непонятной, пугающей.
— Ты… завидуешь. Вы все завидуете.
— Лер…
— Зачем пришла? — будто сглатывая что-то, спрашивает Лерочка, пупырчатый комок катится под тонкой кожей ее горла и пропадает где-то у костлявых ключиц. Лерочка чернеет лицом, нехорошо улыбается. — Позавидовать? Посмотреть на наше счастье?