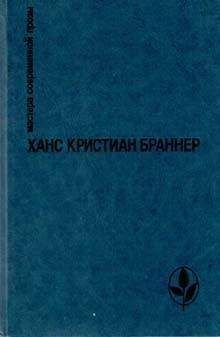Наталья Рузанкина - Возвращение
— Знаю. Теперь знаю.
— Порой Она была бесформенна, порой напоминала человека, и тогда я вглядывался в Её лицо, но у Неё в одном лице было тысячи лиц, и они беспрестанно менялись, но лишь одно выражение не сходило с них — выражение чудовищного торжества и чудовищной гордыни… А потом пришли огонь и снег.
— И ангел с изумрудным мечом… Я сполна заплатил за содеянное!
— Ты заплатил? — усмехнулся Кот. — А за что платил я? А за что платит Госпожа в этом страшном городе? Ты уверен, что, когда я подымусь с четверенек, за одним великолепным застольем я не нырну как-нибудь под стол и не замяукаю в ожидании подачки? Не буду приносить мышей к порогу своего дома, охотясь по ночам, бросаться на всех встреченных по дороге птиц? Я ненавижу тебя, ненавижу с той же силой, с какой когда-то поклонялся как Другу и Господину. И зачем только я вспомнил всё это! Столько раз я пытался погибнуть в этом своем обличии, и всё без толку. Я ненавижу тебя. Иди в Долину один.
— Но…
— Ты не понял? Я хочу остаться в этом своем облике, жить этой своей жизнью. Я не пойду с тобой в Долину воскрешать былую красоту, потому что ты слаб и самонадеян, и воскрешенная красота снова погибнет, если Пыльная Тень забредет в Долину вновь… Прощай.
— Но я…
— Лучший стрелок и охотник покидает тебя, мой предавший всех и вся Господин, — Кот изящно поклонился. — Если вдруг действительно воскресишь Долину, передавай привет от меня моему заповедному озеру, где собирал я жемчуг… для нее. Я любил ее, но не так, как выкрикнул ты в тот день Проклятия…
В знойных лугах стихли шаги Кота, в невообразимой лучистой дали затерялся он, а Странник всё сидел, замерев, на берегу. Лесные и луговые жители подходили к нему, заглядывали в сумрачные страдающие глаза, маленькая дриада несмело присела возле — Странник не видел всего этого. Первым испытанием стала вовсе не встреча с Лорелеей, как думал он. Первым испытанием оказалась возвратившаяся память Друга, и это было не менее ужасно.
Глава VII
И шафрановые вечерние лучи, мягко льющиеся в окна, и медовый чай с запахом гречихи не успокаивали: знобко, по-зимнему опустошенно было на душе. Столкнувшись с неизбывной материнской болью подруги, я на миг забыла о своей боли, но о ней напомнила ветка шиповника — тихо и нежно горела она на окне. Она теперь была моей святыней, письмом из погибшего Рая, она хранила тепло твоих рук, бессмертная Любовь моя, и привкус ее сладостной горечи застыл на губах моих. Крохотная частица моей Долины, она была вырвана из той великой вечности и брошена к ногам моим тем, кого вспомнила я, кого любила первой и последней любовью все эти тысячи лет, умирая и воскресая.
Шафрановые лучи сменили тяжелые фиолетовые облака, неумолимые, грозные, темным стеклом отсвечивало небо, вечер густел, наливаясь ночной печалью, а я смотрела в сумерки на угловатые громады зданий…
Вот расплываются черты ненавистного мира, и предвечный изумрудный свет заполняет всё, вот шелестит вокруг непобедимой зелени листва его и трава. Вот я в дивном видении посреди своей погибшей Родины.
Тихая радость поселяется в сердце, радость свежая, как утренний свет, доверчивая, как жизнь на пороге Любви. Я миную волшебную рощу и оказываюсь на дороге к Дому, но на обочине Дороги стоят люди, знакомые, милые мне люди, устремив в пространство тоскующие взоры. И я вдруг понимаю: пока каждая из них не обретет свою Земную Долину, свое простое человеческое счастье — я не достигну моей, предвечной. Пока на маленьких крепких ножках не заспешит навстречу по темному коммунальному коридору рыжий, смешной, солнечный Тёмка, пока черная, иссушающая тоска не покинет сердце Татьяны Ивановны, пока в подлинную Любовь, как в золотой водопад, не окунется тоскующая Лерочка — мне не прийти в Долину.
Звонок бросает меня в мой скудный, временный мир, панельный, крупноблочный, звонок пахнет дождливой ночью, тревогой, чайной розой и карамелью. На пороге — Лерочка, вся — восторженное сверкание, золотая молния, восхищенное ожидание…
— Ой, ну ты…
— Собирайся, соня! Мигом, живее! Судьбу проспишь! — запах розы и карамели от костюма из тяжелой, с вечерней позолотой, парчи, глаза ребенка в сиянии звездных радуг Приключения.
— Ты обалдела? Половина двенадцатого, между прочим, а завтра — последний день сдачи социологов…
— Социологов, психологов! — кривляется Лерочка. — Да ты чокнешься когда-нибудь в этом своем купе трехкомнатном или удавишься с тоски, никакая социология не поможет! Да эту жизнь, как золотую рыбку, за жабры хватать надо и держать — во! Каждый миг, каждый час, и давить, давить: «А исполни-ка, рыбка, три моих желания!»
— Одно у тебя, я вижу, исполнилось… Не пойду никуда.
— Ну и дура! Там, внизу, два таких зверя… Свободные, при деньгах, без придури всякой…
— Я — человек.
— А город — заповедник! А нормального мужика сейчас, как зверя, выслеживать надо, охотиться!
— Вижу, поохотилась удачно…
— Ой, да пойми ж ты наконец! Ну не придет он, королевич твой заморский, а ты в психушке окажешься по причине хронического безмужичья.
— Так, иди отсюда! — я сурово выпихиваю в коридор сверкающую Лерочку. — Иди, иди, заповедник ждет. Укротительница…
Лерочка несколько секунд хищно сопротивляется, затем обмякает, припав к косяку. Звездные радуги в ее глазах угасают.
— Дашунь, ну пойдем, ну очень тебя прошу! Люди приличные, своя фирма, посидим часика два, присмотришься, да и не в «Корибу» в этом, а в «Монблане». Стильно, уютно, сервис опять же… Ты, например, осьминога пробовала?
— Мерзость какая…
— Дашу-у-унь! — Лерочка намертво прилипает к косяку. — Ну для меня, Даш…
— Брысь!..
Лестничная клетка наполняется сиротливыми Лерочкиными воплями; я с ругательством захлопываю дверь и щелкаю выключателем. Световые полосы от фар плывут по темным стенам, потолку. Ночной сумрак, как проклятый омут, поглощает голоса, образы, надежды, и лишь один образ ему неподвластен, образ, разрывающий ночь и сжигающий время, твой образ, бессмертная Любовь моя, и лишь одна надежда не затоплена его черной глухой водой — надежда на возвращение в Долину.
Снится мне сон, ослепительный и болезненный, как удар кинжала: стрекоза с парчовыми, в узорной позолоте, крыльями тоскливо бьется в темном паутинном углу в ожидании безжалостного, переполненного чудовищной жаждой паука.
* * *День следующий был свежим, росистым, с небом глубоким и ясным, с празднично сверкающим солнцем.
В нашей редакторской конторе, однако, праздника не было: охрипла от нравоучений и пылила тысячелетним трикотажем Черно-Белая, пудрила сиреневые круги под глазами, укоризненно косясь на меня, Лерочка, по коридорам с туманными улыбками бродили социологи, счастливые оттого, что тиснули краденые статьи в нашем скучном до одурения сборнике.