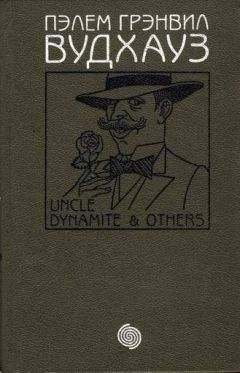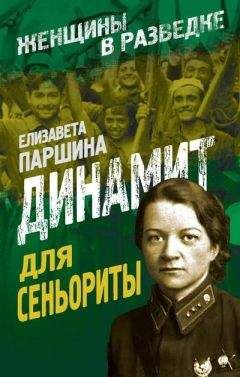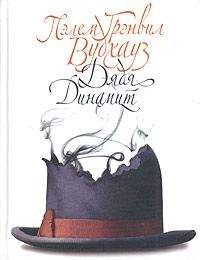Войцех Жукровский - На троне в Блабоне
В конце концов я порешил: один проберусь к королю, обрисую неизбежный ход событий, призову его к благоразумию и пригрожу утратой королевства. Надо же ему напомнить: все записанное в Книге осуществится в тысячах судеб, и тут ничего не поделаешь — не вычеркнешь и не впишешь обратно. Так понемногу и я, подобно посланцам Блабоны, столь слепо доверявшим мне, уверовал в свои записки как в последнее спасение.
Хотелось бы пробудить в короле гордость и волю к правлению страной, а значит, и к служению народу, служению пусть даже вопреки его, народа, прихотям, вопреки порывам к сиюминутной выгоде, ибо такие порывы застят будущее, а позднее люди горазды винить и проклинать других. Король, вознесенный на самую вершину, подобен громоотводу — громы гнева людского бьют в него. Короля ежедневно и ежечасно осуждают, и лишь после смерти ненароком выясняется — не так уж плох был правитель, возможно даже, история обласкает его, и прослывет он Щедрым, Добрым или Справедливым.
— В замок являлись рыцари — приближалась годовщина похода на Тютюрлистан, то есть годовщина предотвращенной войны, — и спрашивали короля, нельзя ли объявить сбор средств на памятник победы, ведь блаблаки очень любят памятники… Горожане высылали делегацию разузнать, нельзя ли разобрать оборонные стены, обручем стянувшие Блабону, точно бочку… Крестьяне допытывались у влиятельных советников, нельзя ли ноне побольше чечевицы посеять, чечевичной похлебкой блудных сынов встречать, а их изрядно наплодилось… И все это король Кардамон вроде и слушал, да не слышал: по челу видать, мыслями далеко блуждал, отделывался король, похлопав вопросителя по плечу, дабы благосклонность оказать, раздавал зеркальца и гребешки, иногда и баночку с помадой. А бывало, выудит волосача из толпы, посадит на трон и перед обалделой депутацией хвалится своим парикмахерским искусством, приговаривая: «Радость надобно в том обретать, что поистине умеешь делать, трон мне в наследство достался, а ножницы, гребень да бритвы я сам выбрал…»
А с людьми-то, с людьми что попритчилось — умение и мастерство, знание и добросовестный труд ни за что почитаются. Допоздна за кружкой пива засиживаются, своих половин заверяют подмигиванием, мол, полезные знакомства надобно завести, лазейки сыскать, то да сё через них раздобыть случится.
— Хороша была старая блаблацкая поговорка: «Скорый едок — спорый работник», — вставил свое слово и Мяучар. — Искони повелось: нанимаешь работника, миску полную выставь ему да гляди в оба, как липовой ложкой управляется. Скоро управился, крошки со стола в ладонь собрал, в рот отправил, богу да хозяйке благодарствие за угощенье сказал, спокоен будь: до свету в поле выйдет, роса не обсохнет, а уж полосу сожнет, а как суслоны днем ветерком подсушит, смотришь, на ангел господень уже огромный стог везет в овин. А сейчас людишки только и норовят пожрать побольше да послаще, в тенек завалиться, от еды отдохнуть-всхрапнуть, пробудившись, крынку простокваши испить — так в глотке сушит… Оглянуться не успеешь, время к ужину, тут уж все носами поводят — принюхиваются, что на сковороде скворчит, что в горшках кипит, не звякнет ли чугунок крышкой, потому как для уха это самая приятная музыка.
За столом порассядутся, кружками об стол постукивают, слюнки проглатывают да причмокивают — вот какова стала братия ненасытная.
Сам, дорогой наш летописец, понимаешь, коли все только себя ублажают, в красивые одежки рядятся, волосы поотпускали, усы по моде укладывают, так с зарей вставать некому, чтоб коровам корму задать, подоить, до седьмого пота наработаться. Вот и пришла к нам кума беда на житье-бытье постоянное.
— А ты сам что же? — хихикнул Мышик.
— Кот не создан для работ. Котова работа — сусеки сторожить от мышей, — проворчал Мышебрат. — Чтоб зерно не лущили, не молотили…
— Брюхо — злодей, что ни день, то есть подавай, — начал Бухло. — Пустое брюхо урчит, бурчит да пучится — быстрехонько в ум войдешь. А у нас нет чтоб за работу взяться — всяк норовит, как бы от работы отлынить, хоть в труде смысл жизни и вечное утверждение бытия. Кто повыше, начали мало-помалу казну пустошить и промеж себя делить. Кто пониже, счеты-расчеты вели, как бы к тем, кто повыше, втереться. Какая уж тут доброта: лишь бы ногу ближнему подставить, локтями распихать, сверху кого-нибудь свалить. Заместо дружбы общими интересами ненадолго единились, чтоб, добившись ближайшей цели, соперниками сделаться, — любые средства в ход шли. А выигрывали во всей этой кутерьме акиимы.
Торговки так и норовили, как бы покупателя надуть, булки начали выпекать малюсенькие, матери с жалобой к министру стола набежали. А он приказал лотки выше ставить, дескать, булка к глазу ближе — больше кажется. Только и эта хитрость не удалась. Глаз-то обмануть можно, да брюхо не проведешь: все равно мал кусок, не насытишь роток. Злоба разгулялась по людям, особенно когда король новую мзду взимать задумал. Цены росли, двор в деньгах нуждался, лихоимцы тут же сыскались — за год долг удваивали. Так богатые все богатели, а бедные и вовсе обнищали. Ремень пришлось потуже затянуть, и пошло любопытство гулять: а что соседняя страна в горшке варит, откуда продукт добывает?
— Дорогие мои, — запищал Мышик, подпрыгивая на моем колене, — я всего лишь мышонок, к тому же среди вас самый молодой, а все же разрешите кое-что вам предложить… Такие страшные истории пошли, что прямо-таки необходимо подкрепиться легким завтраком!
У мышей такая уж натура: пока не едят — спят, а проснутся — снова принимаются грызть хоть какую-нибудь малость…
— Вот и блаблаки тоже, — пошутил сержант. — Каков молодец у тебя крестник, а, Мяучар? Маленький, да удаленький. И то дело, пора подкрепиться, светать начинает, скоро и граница королевства, вон и река Кошмарка извивается в рощах, серебром блещет.
— Мы же недавно ели, — запротестовал я, мне хотелось дослушать Мяучаров рассказ, однако роса пронизывала холодом, и перекусить совсем не помешало бы.
— Отложи трубку и намазывай хлеб! — загремел радостно Бухло. — Какое там недавно! Вчера поужинали, а сегодня не мешает и позавтракать. Смотри, светает!
Небо вдали посветлело, занимался туманный осенний день, из-за деревьев лениво вылез краешек солнечного диска.
— Настал для нас день великого испытания, — кивнул я. — Первые шаги в незнакомой стране.
— Ну уж не совсем для тебя незнакомая, — не согласился Бухло. — Кое-что не изменилось: городские стены, например, замок, памятники… И кладбище не сдает позиций, цела и могила нашего друга, петуха-капрала Типуна. Только люди какие-то снулые, со дня на день перебиваются, лишь бы переждать. И чего пережидать? Собственную жизнь?