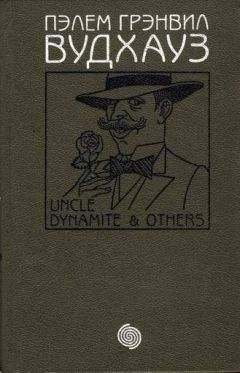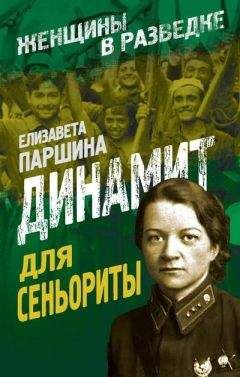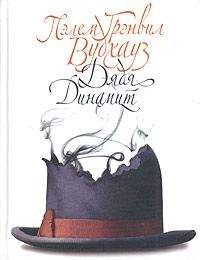Войцех Жукровский - На троне в Блабоне
Городские толпы собирались к замку и требовали, чтобы министр финансов поточнее считал: войны нету, золото на вооружение не тратится, куда ж оно испарилось? Короля вынудили назначить специальную комиссию, результат разбирательства распечатали на плакатах:
Какие доходы,
такие расходы!
Сходится точно. Можем отвечать.
Подписи начальства. Круглая печать.
Теперь ты, надеюсь, понимаешь, откуда повелись и начали размножаться братья акиимы? Взобрались на посты, поддержки добивались лестью, щедрыми посулами, да и припугивать наловчились. Один ручался за другого, один другого подсаживал. Мы только обалдело таращились, а они, уверившись, что все с рук сойдет, и вовсе обнаглели. Одних это устраивало, иные пророчили: вот увидите, завтра их прижмут к ногтю, рубанутся башкой в стенку… Только как-то ничего такого не происходило, корысть плодилась не по дням, а по часам, люди честные то и дело натыкались на прутья невидимой клетки, в которой как-то незаметно очутились.
Ведомства укомплектовались акиимами, за ними остались посты в королевском совете, а значит, места и за столом, и в театральной ложе. Одежду получали по сниженным ценам, а то и просто задаром, на экспериментальный показ — этакие провозвестники новой моды.
Раскатывали они в королевской карете — лошади, дескать, застоялись в конюшне, — раздавали друг другу ордена, а в предвидении особых заслуг перед Блаблацией их загодя ожидали сухие, солнечные местечки на кладбище, вдоль главной аллеи, чтоб от людей почаще почет был…
— И вы смирились? — пытался я уяснить, откуда столь непонятная пассивность, покорность насилию, трусливая лень. — А король не сообразил, что на орехи ему же достанется или еще хуже — головой поплатится?
— Парикмахерские страсти быстро выросли и обрядовые зрелища, король ничем больше не занимался, немногих доброхотов, рвавшихся его предостеречь с риском схлопотать немилость, он отгонял, как назойливых мух. Королевские причуды смахивали уже на безумие — увы, лишенное величия, ибо не было подкреплено насилием, страхом перед вооруженными стражами, коему — учит история — подданные искони покорны. Король вошел во вкус — мало просто причесывать придворных, он учинял пышные цирюльные панорамы из причесок огненно-рыжих и снежно-серебристых, живописными купами оттеняющих друг друга, создавал симфонии ароматов, по старым рецептам собственноручно изготовлял помады для ращения волос, дабы хоть младенческий пушок, обещающий в будущем обильное произрастание волос, осенил полированное темя. Вышел указ: всем королевским советникам отпустить усы; король вощил советникам усы, подкручивал на все лады, у одних усы задорно торчали вверх, у других грустно обвисали. Посему одни имели право голосовать только за, другие — только против. Полюбилось королю усаживать советников по росту так, чтобы из усов складывался живой меандр.
Самой большой честью почиталось приглашение на пострижины в тронную залу. Король порхал вокруг клиента, стрекоча, как кузнечик, сверкающими ножницами, он ваял своих подданных, извлекая на свет божий их подлинный нрав, совершенствовал облик.
— Так оно и есть, — подтвердил Мышебрат слова старого сержанта. — После пострижин не только я не узнавал придворных, они сами, вытаращив глаза, долго торчали перед зеркалом, а уж себя-то, верно, знали вдоль и поперек и привыкли к своей физиономии.
— Самым большим наказанием стали тоже острижины: стрижка тупыми ножницами, дранье спутанных косм гребнем, щипанье, якобы невзначай, разогретыми для завивки щипцами. «Не вертеться! Работаю с бритвой, с ней шутки плохи!» — командовал король, размахивая бритвой так, что у замотанного простыней смертника — как его еще назовешь? — холодок по спине пробегал. А король уже отпускал любезности, сыпал похвалами, лестные слова говорил, вызывал на откровенность, и, сдается мне, знал он теперь куда как больше, чем из тайных донесений, препарированных так, чтоб не слишком отягощать государев ум.
— Да, неладное творилось в Блаблации.
— Возроптали даже брадобреи; король хлеб отбивает, а ведь он самоучка, диплома цехового не имеет… может, тогда они вместо короля сядут на трон да малость поуправляют в свое удовольствие? Может, народ и подмены не заметит?
— Я сам слышал, как ученик цирюльника, тот, что пену взбивает и состриженные волосы заметает, льстился к мастеру: «У народа свой глазок смотрок, усмотрел бы подмену… Впрочем, мастер правил бы лучше…» А мастер тем временем со слезой взирал на свой цеховой диплом в золоченой рамке; поскольку у него всегда про запас была куча слухов, то и клиентов хватало. И кто же против него король Кардамон? Незаконный самоучка, оборотень, портач! «Портачи-и-ище! — издевательски пропел ученик. — У него такое ремесло, что к собакам занесло, на дворнягах руку набил, потому и человека все равно что пса корнает. А наш мастер ножниц и гребня настоящий художник!»
Цирюльник поглядывал на свое отражение в зеркале с таким почтением, будто чело его уже венчала корона властителей Блаблации.
— Так и потерял свою добрую славу король Кардамон, а с ним вместе и весь совет… Совет, может, и не из одних умников состоял, да радели они о мире и ладе, о народном благе, люди были честные и почтенные, доверия заслуживали.
— И не сыскался смельчак, муж с горячим сердцем, не убоявшийся впасть в немилость, и не выложил королю всю правду, ведь доброе дело — правду говорить смело? — спросил я осторожно, чтоб друзья не обиделись — их, мол, обвиняю в трусости.
— Нашелся один — граф Пармезан, он во главе похода на Тютюрлистан стоял, помнишь? Но долго он с королем не прозаседал — лысина Пармезанова королю покоя не давала, вот король и намылил графу голову!
— Да, не ладится у вас…
— Оподлились вконец, — горько признался старый служака. — И гнуснее всего — считаем все в порядке вещей, и подлость не возмущает, и мошенничество не гневит.
Мы сидели с озабоченными минами каждый в своем углу, гондола мягко покачивалась, словно старалась смягчить наше горе, унять заботы.
Все определилось: предстояла тяжкая борьба, великая проба сил, а враги хитры, многочисленны, и нелегко их распознать. Мужество и самоотверженность еще не все, и многие добрые качества моих друзей могут обернуться против них же. Старый артиллерист доверчив: что на уме, то и на языке, к цели привык идти напролом. Мышебрата с его добрым сердцем легко растрогать, обольстить и притворным дружелюбием провести… Он привязан к родным местам, любит свой уголок, где его легко могут подкараулить бандиты. Петушок Эпикур готов вызвать на бой весь мир, стоит только посмеяться над его ростом, усомниться в храбрости. А Мышик? Что я о нем знаю? Как все юнцы, он любопытен, жаждет приключений, самоуверен: все-то он знает, от любой опасности ускользнет… Да, за Мышика я боялся — не дай бог, погибнет, как покажешься на глаза его семье?