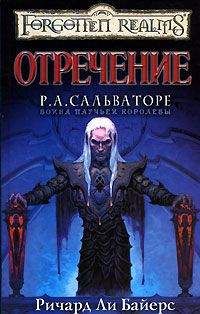Андрей Мартьянов - Отречение от благоразумья
Иногда я просто ненавижу свое ремесло.
КАНЦОНА ВОСЬМАЯ
Praha Zidovska и другие чудеса
Снова дождь, снова октябрь, и снова трактир. Однако теперь не на забытой богом и людьми границе между Англией и Уэльсом, а в пражской Малой Стране — квартале золотой и золоченой молодежи, царедворцев и алхимиков, гадателей и астрологов, умопомрачительных дам, выходящих на прогулки только в сумерках, галантных кавалеров, многозначительно побрякивающих шпагами, каких-то подозрительного вида личностей, очень напоминающих тех, что состоят в верной свите фон Турна, обманчиво-тихих еврейских торговцев-перекупщиков со столь проникновенными взорами, что даже не хочешь, а купишь у них что-нибудь, горланящих по ночам студентов, воров и их подружек, выглядящих не хуже дворянского сословия, и еще тысячи и одного персонажа, почти неразличимого в вечерней полутьме.
Герр Мюллер, отцы Лабрайд и Фернандо давно уехали в Париж, бросив нас с отцом Алистером в Праге под охраной нескольких верных швейцарцев, без которых, впрочем, мы прекрасно обходимся — наши вояки от безнадзорности совсем разболтались, и вместо несения службы теперь пьянствуют, дерутся в трактирах, а один даже женился. Впрочем, Бог им судья, кто теперь не безгрешен?..
Здешний трактир (он называется «Лошадь Валленштейна», почему — я так и не выяснил) даже трактиром-то можно называть с большой натяжкой, скорее уж это здешнее подобие кофейни очаровательной Нинон де Ланкло из парижского квартала Марэ, и распоряжается тут местная знаменитость, как ни странно, почти соотечественница — мадам Уитни, пани Эля, Елена Прекрасная и легконогая Геба в одном лице. Мадам держит свое заведение железной рукой, благородные — направо, не слишком благородные, но с тугими кошельками — налево, всем прочим от ворот поворот, а кто не согласен с такими правилами — в миг вылетит яскоткой, то бишь ласточкой, и можно даже не трудиться отпирать дверь.
(Приписка на полях: Позже, где-то через год, у врат в маленький рай пани Эли некоторое время бдел самым обычным вышибалой родственничек отца Лабрайда приехавший в поисках счастья на континент (а заодно и возжелавший повидать нашего инквизитора, приходившегося ему не то троюродным дядей, не то восьмиюродным кузеном со стороны пятиюродного дедушки — в шотландских родственных связях сам черт ногу сломит). Это был подлинный диковатый кельт, выглядевший так, будто прибыл в просвещенную Европу прямиком из времен Ричарда Львиное Сердце или мятежей небезызвестного Уилли Уоллеса. Звали сие чудо шотландских гор Дугалом Мак-Эваном. Не знаю, каким он был стражем, но послушать его болтовню сбегалась половина Праги. Заезжих иностранцев специально водили поглядеть на говорливую диковину в клетчатом одеяле, а за время его службы выручка мадам возросла не то в три, не то в четыре раза. Что бы там не говорили насмешники, бывает все же польза и от кельтов!)
За два месяца, что мы — отец Алистер, коего не обманули предчувствия, и коего все же возвели папской буллой в должность Апостольского нунция в граде Пражском, и я при нем в качестве не то секретаря, не то порученца по особо важным делами — здесь обитаем, я, кажется, успел насквозь пропитаться местными ароматами и колоритами. Прага и в самом деле не город, но состояние души пребывающего в ней человека. Порой мне кажется, что даже улицы в ней не стоят на месте, как им положено от роду, а плавно перемещаются по собственному усмотрению, и, пройдя по какому-нибудь узкому переулку, плотно стиснутому между уходящими к небу домами, завтра ты его уже не отыщешь.
В еврейском квартале — гетто — бытует легенда о так называемой Холодной Синагоге, еврейском молельном доме, странствующем ночами по городу. Говорят, будто вошедших в распахнутые двери этого дома больше никогда не видели среди живых, однако некроманты и заклинатели духов со Златой улички клянутся, что и среди мертвых никто не откликнулся на имена пропавших. Такова Прага — пропитанная сотней тысяч дымов и десятком тысяч легенд. Здесь любят страшные сказки, извлекая их из глубины времен, а по необходимости — сочиняют сами. Даже в таком прозаическом месте, как «Лошадь Валленштейна», прислушавшись, всегда можно различить витающий под потолком отголосок нового предания, родившегося только вчера и не успевшего обрасти подобающим мхом древности.
О чем только не шепчутся!.. О пропавшем и так и не найденном фон Клае, об участившихся случаях внезапной гибели пражских священников, о подробностях бытия наместника Мартиница и его верного секретаря (сии подробности вроде бы не выходят за двери спальни наместника, а вот поди ты — все знают!), о новых происках Ордена Козла (членов коего никто в глаза не видел), о делах Парижа, Лондона, Вены, Нюрнберга, Мадрида, далекой, таинственной Московии (после смерти короля московитов Бориса Годунова внезапно оказавшейся под полным влиянием польского монарха Сигизмунда и известной красавицы панны Марины Мнишек, вышедшей замуж за нового русского владыку Димитрия, сына Иоанна по прозвищу «Грозный») и заморских колоний в Новом Свете, о подозрительных гостях алхимика Филиппа Никса, о дамских модах, о дуэлях и новозаведенных романах... О театре — эти слухи пользуются самым большим успехом.
Да, пражский театр. Именуется «Таборвиль», владелец и автор большинства идущих пьес — некий выходец из Венеции, Лоренцо Фортунати, остроумный долговязый тип с гнусоватым голосом и манерами, представляющими нечто среднее между робким нахальством и скрытым заискиванием.
В труппе у него около десяти человек — среди которых весьма миловидные и дерзкие на язык девицы, репертуар составляют незамысловатые пьески о неверных мужьях, обманываемых сметливыми женами, о хитроватых монахах, предпочитающих одинокую тишину кельи поучительным беседам с теми же неверными женами, и о ловких пройдохах, морочащих головы богатым купцам, коих Господь на старости лет обделил разумом. Впрочем, когда поблизости насчитывается достаточное количество молодых людей в черных плащах с белыми воротничками, и лучше всего, ежели они окружают особу барона фон Турна, а поблизости не видать ни одного инквизитора или монаха, мессир Лоренцо немедленно выводит на подмостки героических фламандских гезов, несгибаемых протестантов и пресловутых прованских менестрелей, коим что бы не петь, лишь бы насолить церкви.
Мессир Лоренцо, конечно, отлично сознает, что рискует не только собственной головой, но и жизнями своих людей (отца Мюллера до возвращения в Париж как-то занесло на их представление «Штаны святого Франциска», так он полдня плевался и отправил владельцу театра рескрипт с грозным предупреждением), ибо приснопамятный указ императора Рудольфа запрещает любые разновидности балаганов и вертепов, и даже выступления специально приглашенных в честь какого-либо события актерских трупп в дворянских домах. Но время идет, император нынче почти отстранился от власти, указ не то, чтобы забыт, но отодвинут в тень, а у «Таборвиля» имеется влиятельный покровитель — глава венецианского посольства, Аллесандро делла Мирандола, маркиз Кьянти. Тот самый, на кого что ни день, то новый донос, и которого Краузер едва только не на всех углах честит самозванцем. В таком случае, кто у них в Праге тут не самозванец? Маласпина, видите ли, не настоящий Маласпина, и делла Мирандола тоже не Мирандола...