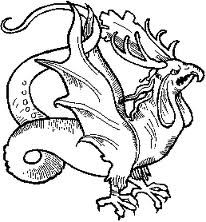Юханан Магрибский - Среброгорящая Дремчуга
И вот, настало заветное утро. Ушёл, не сказавшись, захватив с собой своё сокровище, завёрнутое в кусок холстины — подальше от любопытных глаз. Пошёл к Дворцовой — сегодня пускали всех, и народу натекло сотен пять, не меньше. Гомону, шуму, но все по краям площади теснились, а перед собором, перед самыми его громадными, серебряными воротами выстроились в ряд… Житька увидел, и сердце заныло — ну все, как один, видно же за версту, боярские дети. Вон, в каких кафтанах, и шапки с отворотами, перья пёстрые воткнуты — видно, что наряжались! А у кого и сабелька на боку посверкивает. И не всё ж мальцы — и юноши статные были, особняком держались, и отроки что-то громко обсуждали, сбившись в кружок и размахивая руками, только далеко же — не разобрать, одни обрывки ветер носит. Одни только мальцы стояли порознь, тихо и испуганно.
Житька собрался с духом, и решился. Пошёл к ним. Прошёл шагов десять, совсем уж близко, а живот подводит, ноги не идут — хоть назад поворачивай. Невольно шаг замедлил, а мысли кружатся — может, и нечего? Куда ж мне, со свиным-то рылом в калашный ряд? Выдумал, тоже мне, волшебник. Подумал, и тут ему на плечо рука опустилась. Тяжело так, чуть к земле не прижала. Развернула к себе — стражник. Усатый, громадный, в куртке с красными полосками и начищенных сапогах — видно, в честь праздника.
— Ты куда это, малец? Не видишь, что ли — тут господа волшебники сейчас учеников будут выбирать. Давай, не путайся под ногами. Видишь, где народ стоит? Топай туда.
Сказав, стражник явно счёл дело сделанным, и неспешно, поглядывая по сторонам, зашагал к своим. Обернулся для порядка, глянул на Житьку, нахмурился.
— Малец, ты что, не понял разве? Топай давай! — прикрикнул он.
Житька стоял, набычившись, прижимая к груди бутыль. «Не уйду, — вертелась мысль. — Не отступлюсь. Я — волшебник, мне нужен наставник». Стражник вновь подошёл к нему, схватил за плечо.
— Не уйду! — крикнул Житька. — Говорили же — всем можно! Кто желает себя испытать, любой может! А где сказано, что у простых силы не бывает, а? — он едва-едва сдерживался, чтобы не заплакать от душащей обиды и страха. Одна злость спасала: — Всем можно, пусти.
— Эй, дядька! Кто там такой смелый? — донеслось со стороны собора, оттуда, где ждали волшебников будущие их ученики. — Ну, ты пусти, пусти его, позабавимся.
Стражник посмотрел в ту сторону, поджал губы, кивнул, да и пошёл назад. Житька остался стоять один. Ветер, гонявший по брусчатке песок, пыль и сор поднялся вдруг и хлестнул его по лицу, заставляя очнуться и поспешить к остальным.
Вовремя. Под праздничный, медный крик рогов, кованные серебром двери медленно распахнулись, и из тьмы на свет, по двое стали выходить первейшие волшебники. Житька стоял ни жив ни мёртв. Парень лет пятнадцати (это, видно, он отослал стражника), называл по именам выходящих. Пот холодной струйкой сбежал по спине, когда он шепнул, чуть наклонившись, на самое ухо: Имбрисиниатор и Альрех-Тинарзис. Житька поднялся на цыпочки, стараясь лучше рассмотреть их — высокий, сутулый старик с тонким посохом в руках и громадным, горбатым носом, теряющимся в густых, серо-пепельных бороде и усах, он был, верно, самим Имбрисиниатором, а юноша рядом с ним, румяный и одетый в щегольской кафтан, без волшебницкой парчовой накидки, был, верно, Альрехом-Тинарзисом.
— Гляди, а за ними гости, этих уж по именам не знаю, — шептал парень, и из дверей выходили волшебники в красных накидках, а потом в эдаких куртках с шитьём, а потом ещё, и много всяких, так что у Житьки совсем уж разбежались глаза, и дыхание перехватило.
— Подойди, отрок, — проскрипел старческий голос, и Житька увидел, что один из волшебников ткнул пальцем в грудь ученика. — Я вижу в тебе силы и знания, идём за мной.
Не дожидаясь ответа, старик развернулся и побрёл в темноту распахнутых ворот собора, а выбранный юноша, сверкнув улыбкой и что-то бросив своим, поспешил следом. А потом ещё один ушёл со своим наставником, и ещё. И другой, и много ещё. Вот уже позвали парня, который Житьке волшебников называл, и он исчез, весело бросив: «Удачи!»
Вот уже пятеро осталось, потом трое. А потом только сам Житька и задувающий в лицо, бросающий пыль и мелкий, острый песок в глаза весенний тёплый ветер, слёзы, дрожь в руках и медленно удаляющиеся спины стариков в парчовых накидках. Вот уже четверо стражников с горящими пламенниками медленно затворяют высокие соборные ворота. Ещё пара мгновений, и ему придётся проглотить позор, уйти, стараясь смешаться с людьми, затеряться в толпе, и тот стражник плюнет ему под ноги, а кто из ребят приложит по уху, и…
Житька решился. Подбежал к воротам — стража, видно, ждала, изготовились ловить слишком прыткого мальца, но Житька подбежал к стражнику (оказалось, тот самый), сказал:
— Дядька, я уж тут постою? Одним глазком гляну.
Тот сперва насупился, да чего уж, не прогнал. Медленно закрывались тяжёлые ворота, степенно проходили через них последние волшебники, отворачиваясь от Житьки (или только казалось?). Вот, уже скрылись из виду Имбрисиниатор с щёголем Тинарзисом.
Житька не глядя, тайком, смотал тряпицу с бутыли, и, стараясь, чтоб из руки не выскользнула тяжёлая, скользкая ноша, поднёс тряпицу к огню пламенника. Та затеплилась, шипя и дымя, едкий запах колдовской жидкости ударил в ноздри, а между створок ворот всего и осталось-то две ладони. И Житька прыгнул.
Он — волшебник. По случайности, из-за невзрачной одежды его не разглядели, но назад уже нельзя. Нельзя снова стать обычным Житькой, третьим сыном продавца спитого чая, если был уже волшебником в Среброгорящей.
— Лаим шесте стомархат! — выкрикнул он в темноту, приложился к бутыли и выдохнул струю огня.
Всё случилось не так, как он ожидал.
Кажется, никто ничего не понял, вспыхнула и загорелась одежда на колдуне, оказавшемся рядом, забегали и закричали люди, хотели распахнуть ворота, но кто-то крикнул: «Ворота не трогать! До обряда никто не выйдет!». С погорельца сорвали его красную куртку и затушили огонь, он как-то тихо и испуганно выл, кругом кричали, но Житька не понимал больше ни слова. Потом его скрутили, заломили руки, он оказался на коленях, и видел только мозаичный пол, но вскрикнул, как от боли, когда бутыль упала на пол и разбилась, проливаясь едко пахнущей лужей, в которой плавали осколки.
Больше он не мог видеть ничего, но только слышал, как спорят, крича до хрипоты, волшебники, он не понимал ни слова, он видел только собственную мечту, разбитую, плавающую осколками в маслянистой жидкости, которая уже успела пропитать ткань на его коленках. В душе было пусто. Слезы больше не текли, и он смотрел на осколки толстого, мутного стекла, на разлитое по мозаичному полу волшебство и думал, что уличный волшебник, бритый налысо и пьяный, видно, оказался слишком неумелым и его колдовство смешно настоящим волшебникам. Глупо было пытаться удивить их этим. Странно, но он совсем не жалел. Какое-то омертвение охватило его посреди всего шума, несмотря на боль в саднящих коленях и скрученных руках.