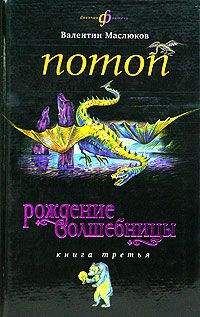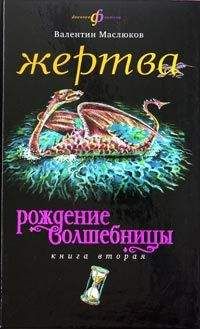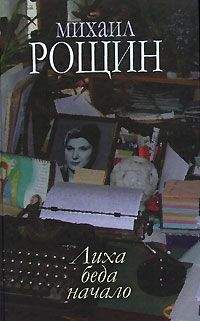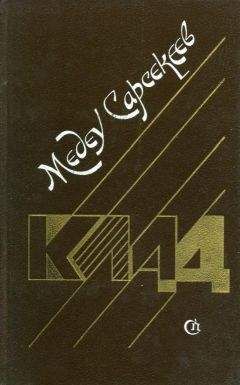Валентин Маслюков - Клад
Смотритель, который был истопник, возился с огнем добросовестно, но без заметного рвения. Ни чудная тишина вечера, ни громыханья подступающей бури – ничто не побуждало смотрителя изменить сонливой повадке. Золотинка подозревала, что там, на верху узкой высокой башни, смотрителя заботит одно – не свалиться. Там, на верху, угнездился домик, что-то немногим побольше конуры. С первыми сумерками низкий вход домика озаряли всполохи неверного, пропадающего света. И еще немного погодя, пятясь, вылезал с огнем смотритель. Огонь он держал в сплетенной из железных прутьев клетке, которая висела на короткой цепи. Смотритель недовольно отмахивался от дыма; преодолевая неохоту и страх, он принимался карабкаться вверх по крутому бревну с набитыми поперечинами. И там, на конце долгого, как шест, наклонно уставленного бревна, ждало последнее испытание: уцепившись рукой за перекладину, нужно было прогнуться, чтобы подвесить пылающую клетку на крюк. Золотинка замирала.
И вот, вздернувшись, упрятанный в клетку огонь раскачивался, а человек осторожно сползал по бревну вниз, к обрезу башни. Красное пламя почти не скрадывало звезды, оно ложилось на темнеющий полог неба, как яркий, но плоский рисунок, дополненный незавершенной багровой чертой, – то была оконечность бревна. Огонь сорил искрами, ронял пылающие ошметки и, разгоревшись жарким мятущимся хвостом, начинал потом задыхаться и припадать. А человек уже карабкался по бревну с дровами в заплечной корзине. Золотинка закрывала глаза, так как и не дождавшись, чтобы у смотрителя кончилось терпение.
Просыпаясь, она видела на внутренних поверхностях чердака брожение светлой зыби; за окнами, переливаясь, отсвечивала подернутая рябью вода. Солнце безжалостно выставляло напоказ старую башню маяка с ее щербатой кладкой и вывороченными по верхней закраине камнями, солнце озаряло жалкую деревянную конуру, где ночью родился огонь. Лишившись покрова тьмы, тонкое бревно несуразно торчало в пустом, раздавшемся вширь небе.
На другом берегу затона отчетливо разносился голос десятника – он размерял усилия многолюдной артели, которая подергивала толстый и долгий, неведомо куда ведущий канат. Протяжные вздохи артели перекрывал торопливый и вздорный визг пилы, слышалось несогласное тюканье топоров.
Золотинка прыгала в воду и, вынырнув далеко от «Рюмок», разгоняла застоявшуюся гладь. Она плыла к берегу, где лежали на боку огромные морские корабли с неестественно заваленными мачтами. Всюду дымились костры, желтели груды брусьев и бревен, а самый берег, обширная плоская отмель, был разделен неровными заборами из толстых плах, которые уходили прямо в воду. Повыше на обнажившихся сваях стояли амбары, а еще выше, там где не доставал прилив, топорщилась чахлая растительность, за которой торчали острые крыши домов.
Добравшись до суши, Золотинка наскоро отжимала подол короткой, выше колен рубашки. Перед нею возле высоких столбов с подвязанными талями лежали беспомощные корабли; можно было видеть внутренность запрокинутых палуб, решетки трюмов. Люди на плотах и помостах вокруг судов обжигали огнем пузатые бока и днища. Пахло палеными водорослями, горячей смолой.
Редкие заборы, чрезвычайно удобные для детей и собак, забытые невесть с каких времен бревна, позеленевшие сваи, амбары, сарайчики, всюду на удивление покосившиеся, полузатонувшие паузки, плоты, огромный недостроенный корабль, густо утыканный подпорками и сам состоящий из одних подпорок – из криво поставленных дубовых ребер – все это Золотинка ощущала, как свое, это был ее собственный, домашний мир. Слободские мальчишки и девчонки не оспаривали Золотинкиного первородства и, следовательно, признавали ее высокое положение.
Влияние Золотинки – а она имела влияние! – покоилось на трех основаниях. Она обладала некоторыми, пусть не до конца установленными правами на корабельный двор, подель, она сохраняла за собой увлекательную возможность рассыпаться сверкающим потоком червонцев, почему и носила кличку Золотой Горшок, и она – обстоятельство не последнее – лучше всех сверстников плавала и ныряла. Что, в общем-то, не вызывало возражений, поскольку понятно было, что блистательные задатки Золотого Горшка должны были так или иначе проявляться, напоминать о себе и в обыденной жизни. «Тебе хорошо, ты Горшок,» – фыркали мальчишки, когда, отсидевши на спор в глубине вод, она выскакивала на поверхность и обнаруживала тогда к некоторому своему удивлению, что все соперники уже налицо – дожидаются.
Однако устоявшееся мнение о скрытых возможностях Золотинки влекло за собой и неприятные следствия: время от времени (не особенно часто) кто-нибудь из товарищей Золотинки, набравшись духу, пробовал огреть ее по голове, приговаривая «аминь! рассыпься!» На что девочка огрызалась со всей доступной ее нежному возрасту свирепостью.
Несмотря на маленькие недоразумения, Золотинка росла доброжелательным, искренним существом, рано начало развиваться у нее понятие о справедливости – она росла под обаянием честных людей и возвышенных книг. И это становилось заметно. Дети, со свойственной им бессознательной чуткостью, угадывали в Золотинке нечто такое, что заставляло их, кстати или нет, вспоминать о чудесном происхождении девочки.
Однако в двойственном отношении к Золотинке заложены были предпосылки будущих, еще более крупных недоразумений.
Пока что девочка принимала прозвище Золотой Горшок и легкомысленно, и добродушно. Одного кличут Золотой Горшок, другого Долгий Брех, третьего Жердь, четвертого Лыч. Шутиха, Шут, Чмут, Череп, Баламут – чем это лучше Горшка? Золотинка, покладистое существо, полагало, что ничем. Не лучше и не хуже.
Впрочем, добродушие ее имело свои особенности, простираясь иной раз так далеко, что теряло свое изначальное, так сказать, предназначение.
Обнаружилось у Золотинки довольно редкое для детей обыкновение выбирать слабую сторону. Когда приходилось разбиться на две ватаги, Золотинка дожидалась, чтобы определился состав той и другой половины играющих, а потом присоединялась к слабым, к тем, кого меньше, кто ростом ниже. Кто поставлен против света, бьет лыковый мяч против ветра. В этом проявлялось настолько естественное движение души, что Золотинке и в голову не приходило останавливаться на своих побуждениях или обсуждать их с кем бы то ни было.
И вот в случае с пиратом все это сказалось самым болезненным образом.
* * *Пират – то была не кличка, а ремесло одного не дряхлого еще старика, который передвигался на подвязанных под голени дощечках. Он лишился ног по приговору своих бывших товарищей. Может быть, он пытался утаить добычу – теперь этого никто не знал наверняка. Известно было только, что пиратские товарищи пирата связали его и каким-то изуверским инструментом просверлили коленные чашки. Пират выжил, чтобы влачить существование калеки. Ноги остались на месте, да только положиться на них нельзя было никоим образом – они не держали туловища и произвольно выворачивались в коленях. По видимости, только известного рода предрассудок удерживал калеку от того, чтобы окончательно отрезать бесполезные ноги и тем облегчить себе бремя пропитания. Вот это было бы, наверное, по-пиратски. Так что старик, надо признать, показал себя все ж таки неважным пиратом, не настоящим – за что и поплатился.