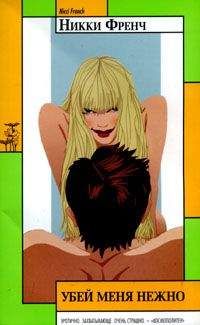Юлия Остапенко - Лютый остров
Вон оно как... Порешил изверга, за родню помстился – и сам извергом стал не хуже убитого ворога. Жалость к Сребляну, шевельнувшаяся было на миг, тут же притухла во мне, ровно искра, присыпанная золой. Судьба-горемычевна и Горьбог-злодей всякому отплачивают поделом.
– Почему он может ходить в море, а я нет? – спросил я, вдруг впервые об этом подумав. Дед глянул на меня искоса, будто совсем другого вопроса ждал. А ну его, в загадки с ним играть... не до того мне нынче. Но ответил:
– Янь-Горыня знает, что не смирился ты с наветом ее, потому тебя и не пускает. Кто покорился ей, тому она даст до дальнего берега доплыть, до доброй земли. И ступить на нее тоже даст. Некоторые и ступают.
Некоторые... почто ж не все?
– Скажи мне, дед, неужто каждый смиряется? Неужто никто не бьется, не сохраняет чести, не выбирает гибели? Неужто?
Я спрашивал и страшился ответа. Потому как скажет – «Так и есть», и будет это значить, что и мне общей доли не миновать... а я того не хотел.
Но дед ответил такое, что от души у меня разом отлегло.
– Не каждый, вестимо. Многие борятся... не умеют судьбу свою принимать. Кого-то и силой усмирять приходится, по-злому. Кормятся их душами море да Янь-Горыня... – Дед примолк, будто задумавшись. После добавил: – Многие еще гибнут от тоски. В основном женщины. Дети тоже, но они если умирают, то на кораблях, до того еще, как ступают на Салхан. Если уж доплыли, то живут...
Я вспомнил, что, когда мы причалили, на берегу среди полоненных я не видел ни одного младенца. И плача детского не слышал. То странно было: ведь, если рассудить, младенчиков как раз нероды должны были перво-наперво хватать. Те вырастут и вовсе знать не будут, где родились... И хватали ведь небось. Только труден путь на Салхан-остров, немногие переживают дорогу. Что уж дети...
Я обхватил плечи руками, зябко мне что-то стало, так же, как прежде кинуло в жар. Сказал:
– То хорошо, что не все смиряются. Утешил ты меня... спасибо.
Дед посмотрел на меня искоса. Хотел будто сказать что-то – и не сказал. Меня вдруг любопытство разобрало.
– А тебе, дед Смеян, самому сколько годков было, когда неродам попался?
Молчит. Али и вправду забыл? Ну, за его-то лета – немудрено...
– Нисколько, – сказал дед. – Родился я здесь.
Я рот так и открыл. А он снял котелок с очага ловкой рукой, подул – и мне протянул.
– На-ка выпей. Снаружи ты вроде согрелся, а изнутри теперь тоже не повредит.
Я взял. Обжег ладони о горячие стенки, а едва то заметил – так деда глазами поедом ел. Это сколько ж лет ему?! Сколько веков? И разве живут столько?
– Так что, – спросил, не в силах унять любопытство, – ты видел Янь-Горыню?!
– Видел.
– И какая она?
– Такая, что раз увидишь – другой не захочется. Пей, говорю.
Я выпил залпом. Нутро мне так и ожгло, но хороший это был огонь, ладный. Поставил я котелок на скамью. Дед Смеян наклонился, согнув старую свою спину, и ворошил угли в очаге. Я потянулся, забрал у него кочергу.
– Дай я...
Пока угли разгребал, не знаю, глядел он на меня или нет. Потом он спросил:
– Что делать теперь будешь, Лют?
Прикипело ко мне это имечко... а что, не хуже родного. Вернее даже. Хотелось бы, чтоб было вернее. Лютовать всяко лучше, чем маяться.
Только вопрос старика совсем не по нраву мне пришелся. Не хотел я о том думать, а пришлось. Ответил я нехотя:
– Не знаю... что присоветуешь?
– Пока у меня поживи. Видишь, один я остался на старость... Оставайся покамест. А там видно будет.
Что тут сказать? Все равно мне идти было некуда. Дед поднялся со скамьи, тяжко опершись на мое плечо.
– Горниц много, выбирай любую. А только не эту, в этой я сам сплю, стариковских привычек не изменишь.
Я оглянулся на него. И тут вспомнил, что он мне сказал у кнежего двора.
– Слушай, дед... а почему ты мне тогда велел крайнюю лодку справа взять?
– А она самая старая, – отозвался дед спокойно. – Ее загубить меньше всего было жаль. Ложись-ка, парень, спать. Долог был у тебя день.
* * *Ох и странен, ох и дивен был дед Смеян... С первого взгляда не по нраву он мне пришелся, а чем дальше, тем меньше я в нем понимал. То, что он един среди всех неродов был свободным человеком, то, что своими глазами видел злую богиню и своими ушами слыхал ее проклятие, то, сколько боли чужой перевидал на своем долгом веку... все это мне чудно было, и робел я перед ним – и не я один. Понял теперь, отчего люди его и уваживали, и чурались: он ведь один из тех, кто беду на них всех накликал, и он же – последняя память о том, что прежде иначе жилось на Салхане. Этот дед еще застал чудный град Салрадум, Серебряный Город, и видел Салхан-гору белой. Я спросил его как-то, отчего он песен про это не складывает – красота ведь была небось! А он ответил:
– Я, дитятко, не умею складывать песен. Чужое пою, а чтобы свое – так Радо-матерь не одарила голосом.
Мне почудилось тогда, что лукавит, но расспрашивать не стал. Боялся я деда. Вроде он ласково со мною держался и приветливо, а было что-то в этой ласке, от чего душу мне выворачивало. И хитер был дед... не по-доброму хитер. Это я потом понял, когда дошло до меня, зачем он мне свой кров предложил.
Я думал – работать на него стану. А не давал он мне работы. Вставал до зари, а порою мне чудилось, что и вовсе не ложился. Сам дрова колол, воду таскал, еду на очаге грел. И откуда силы в нем были, и как все успевал? Я помогал ему, как мог, да только видел, что не нужен я ему, он и сам без меня справится. И стало мне худо. Совесть меня ела – за так стариковский кров и харч принимать. И знал он это, изувер, когда к себе меня звал. Знал, что затоскую скоро и за ворота глядеть начну. Я же из дому почти и не выходил – сил несть было смотреть на Салхан-град, на лица неродов, на их печальных детей... а ну как еще кнежа встречу на улице или Счастливу? Нет...
Так неделя, почитай, прошла. Как-то раз я взялся дрова рубить – глядь, а топора нет. Пошел к деду просить. А он глаза прижмурил: не надо тебе топора, дитятко, вон, глянь, солнышко на дворе, чай последнее в этот год, иди посиди, погрейся... Тогда я не выдержал, накричал на деда – почто, говорю, в дом к себе взял, а работать не даешь? Дед руками развел – уж прости, родненький, а так привык, все сам, стариковских привычек не изменишь...
Ну, что делать? Был бы на Салхан-острове лес – убежал бы в лес, глядишь, как-нибудь прокормился бы. А только не было почти леса, так, редкие кустики да хилые деревца, понатыканные промеж скал. Березу на растопку – и ту нероды торговали на материке. В работники к кому-нибудь наняться? Так все равно враги, ни к одному нету мочи идти на поклон... да и неизвестно еще, возьмут ли. Я готов уже был сам проситься на рудники, да только дед, услышав про то, засмеялся. Он редко смеялся, даром что имя такое носил, и от того его смех звучал особенно обидно. Не возьмут тебя, сказал, и не просись. Ты дитя еще, а детей на Салхане ценят не за то, что киркой махать горазды – пусть бы даже и горазды.