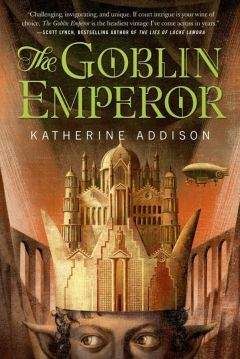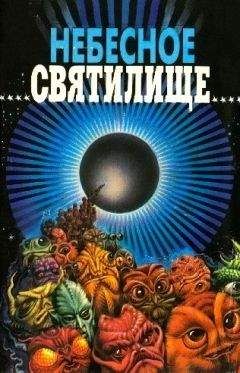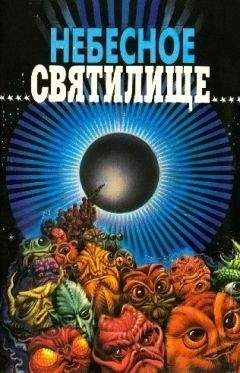Свидетель Мертвых - Эддисон Кэтрин
– Перчатки, – быстро сказал Пел-Тенхиор. – Вы не поверите, насколько быстро у нас заканчиваются перчатки – при том, что их чинят до тех пор, пока есть что чинить. – Подумав, он добавил: – А еще нижние юбки в хорошем состоянии. Знаете, а я рад, что Арвене’ан в каком-то смысле расплачивается с Оперой за свое чудовищное воровство.
– Возмещение убытков, – произнес я.
Он рассмеялся.
– Да, пожалуй.
– Я не шучу. Часть моей работы Свидетеля Мертвых – следить за тем, чтобы мертвые возместили ущерб, причиненный ими при жизни, и, в свою очередь, получили возмещение.
Я принялся шарить в комоде. Поиски оказались недолгими. Выдвинув верхний ящик, я увидел ворох ломбардных квитанций, похожий на скопление спящих мотыльков.
– Мне кажется, я знаю, куда подевались все ее украшения.
Пел-Тенхиор подошел ближе.
– О боги, – воскликнул он. – Что ж, это вне пределов нашей компетенции.
– Верно, – мрачно ответил я. – Но, возможно, ростовщики позволят мне сопоставить квитанции с вещами.
– Вам правда нужно это делать?
– Не знаю, – ответил я. – И это значит «да».

Полдня мы возились в комнате Арвене’ан Шелсин, складывая на кровать все, что принадлежало Алой Опере или могло ей пригодиться. Меррем Надаран была рада избавиться хотя бы от части забот. Кроме платьев, напоминавших оперение сказочных птиц, мы забрали перчатки, носовые платки, шелковые чулки и туфли. А еще гребни и шпильки ташин для укладки волос, многие из которых тоже являлись собственностью Алой Оперы, судя по крошечным буквам «АО», нацарапанным иглой.
Пока мы работали, Пел-Тенхиор постепенно рассказал мне множество подробностей о мин Шелсин. Он говорил о ее голосе, который, по его словам, был прекрасным, но не бесподобным.
– Она часто грозилась уйти в Оперу Амало, но там ее никогда не взяли бы на первые роли, и она это знала. Арвене’ан обожала исполнять ведущие партии. Мне кажется, она никогда не простила бы мне того, что я отдал роль Джелсу другой певице – Оторо.
– В Опере должна быть еще одна артистка, исполняющая ведущие партии меццо-сопрано, – заметил я. – Если бы вы слишком часто давали роли женщине из народа гоблинов, об этом писали бы в газетах.
– Вы так считаете? – усмехнулся Пел-Тенхиор. – Меррем Аншонаран ждет первенца, скоро роды. Она работала буквально до последнего. Мы с радостью примем ее обратно.
– Но мин Шелсин вы бы с радостью не приняли?
– Увы.
Немного погодя он снова заговорил:
– Все певцы и певицы обожают сплетничать, в том числе и я. Но Арвене’ан нарочно говорила окружающим обидные вещи, старалась задеть, уколоть. Ей нравилось разжигать ссоры между членами труппы, но самой оставаться в стороне.
– Значит, она причиняла другим боль, но так, чтобы ее нельзя было обвинить в этом, – сказал я, вспомнив одну из своих прихожанок в Авейо.
– Можно и так выразиться, – согласился Пел-Тенхиор, осторожно раскладывая на кровати платье темно-синего бархата с пышными юбками из газовой ткани. – Она терпеть не могла тех, кто видел ее насквозь. Вероятно, именно поэтому Арвене’ан дорожила дружбой девиц из канцелярии, которые приписывали ей несуществующие добродетели. – Он расправил синюю юбку и выпрямился, рассеянно глядя перед собой. – Это костюм из оперы «Маска императрицы ночи», которую мы ставили в честь свадьбы князя Орчениса, как раз перед крушением «Мудрости Чохаро». И Арвене’ан украла его.
– Красивое платье, – сказал я.
– Не знаю, почему меня это так удивляет, – вздохнул Пел-Тенхиор. – Если бы она была хоть немного порядочной, она, для начала, не воровала бы платья из Оперы.
– Возможно, она не относилась к этому как к воровству, – возразил я не слишком твердо, потому что не знал, верю ли своему собственному предположению.
– Вы не знали Арвене’ан. Здесь костюмов на тысячи муранай; готов побиться об заклад, она вовсе не планировала возвращать ни одного из них. Арвене’ан никогда не упускала из рук того, чем ей удавалось завладеть, и по доброй воле не рассталась бы даже с мелкой монетой. И очень хорошо помнила обиды. Она присасывалась к мужчине как пиявка… Наверное, это прозвучит ужасно, но я нисколько не сожалею о ее смерти.
– Вы не боитесь, что я использую эти слова против вас?
Пел-Тенхиор обернулся и несколько мгновений смотрел мне в лицо. Потом сказал:
– Нет. Вы честны и верно служите Улису. Если бы вам просто нужен был козел отпущения, вы уже давно нашли бы его, и вам не понадобилось бы даже приходить в Алую Оперу.
– Вы многое ставите на карту, полагаясь на свои догадки относительно моего характера.
– Это не догадка – это уверенность, – ответил Пел-Тенхиор.

После того, как мы разделили содержимое чулана мин Шелсин на две части – то, что могло пригодиться в Алой Опере, и вещи, которые были там не нужны, – Пел-Тенхиор ушел искать носильщика. Я спустился на первый этаж, чтобы поговорить с мин Надин.
Я без труда разговорил ее, и вскоре мне нарисовали еще один портрет Арвене’ан Шелсин. Это был портрет хорошей жилицы – тихой, вежливой девушки, которая всегда вовремя платила за комнату. Но она ни с кем не заводила дружеских отношений – ни с другими жильцами, ни с меррем Надаран, ни с самой мин Надин.
– Мы пытались сблизиться с ней, – сказала пожилая дама, – но мин Шелсин это было неинтересно. Она любила говорить только об опере, и если уж она садилась на своего любимого конька, ее было не остановить.
Меня несколько удивило то, что мин Шелсин не пыталась приобрести обожателей в пансионе.
– О чем она говорила? О своих коллегах, о постановках или?..
– На коллег она жаловалась, – ядовито заметила мин Надин. – Но ей очень нравилось рассказывать о своих партиях, о том, какие они трудные – они всегда были трудными, – о том, с кем хорошо или плохо петь дуэтом, и тому подобное.
– Она когда-нибудь пела?
– Нет, и я не просила ее. Эта девушка была тщеславной и самоуверенной – ее не нужно было подбадривать.
– Она должна была где-то репетировать, – заметил я. – Значит, она разучивала свои партии не здесь?
– Не здесь, – покачала головой мин Надин.

Ближе к вечеру я отправился в Алую Оперу. На этот раз юноша-гоблин, сидевший в билетной кассе, сразу обратился ко мне:
– Мер Пел-Тенхиор сказал, чтобы вы заходили.
И указал мне на большие двойные двери.
Войдя, я очутился в фойе. Отсюда по лестницам и коридорам можно было попасть на балконы и в ложи бенуара. Прямо перед собой я увидел другую двустворчатую дверь; когда я приоткрыл створку, до меня донеслось женское пение.
Бесшумно затворив за собой дверь, я прислонился к стене. Слова арии показались мне неуместными в этом роскошном зале – женщина пела о тяжелом труде на фабрике, о необходимости вставать до зари и возвращаться домой в темноте, о саже и машинном масле, которые въедались в рабочую одежду.
Теперь мне было видно певицу, высокую женщину из народа гоблинов с крупными чертами лица и серой, как гранит, кожей. Вчера вечером она исполняла партию меррем Элореджо; я еще тогда удивился, почему ей не дали ни одного соло. Она пела о грубых, приземленных вещах, но все равно мне казалось, что я никогда в жизни не слышал такого чудесного пения. Ее нежный, жалобный голос возносился ввысь, превращая проблемы, которые многие назвали бы мелкими и незначительными – особенно по сравнению с риском погибнуть или стать инвалидом, являвшимся частью повседневной жизни рабочих, – в символ несправедливости, от которой страдают труженики фабрик. Ведь, несмотря на свой тяжелый труд, они никогда не смогут заработать даже на опрятную одежду.