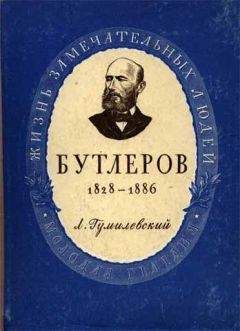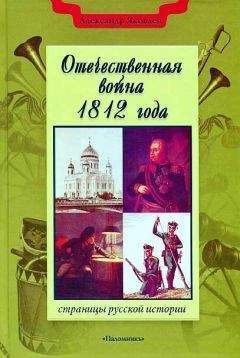Дмитрий Скирюк - Кукушка
Тем временем дверь отворилась и в аудитории показались герр Сваненбюрх собственной персоной и хирург в сопровождении ассистента. Герр Сваненбюрх взошёл на кафедру, сурово оглядел собравшихся, откашлялся и начал.
— Сегодня, — объявил он, — вам невероятно повезло. Вы будете наблюдать вскрытие человеческого тела. Silentium, studiosi[97]! Внимайте прилежно, ибо подобный опыт для художника бесценен! Вы знаете, что мир наш подчиняется законам красоты. Но их нельзя понять, не познав законов красоты уродства, внутреннего устройства живого существа. Учитесь видеть гармоничное везде, ибо у всего есть изнанка, как у дерева есть корни, у дня есть ночь, а у океана — дно и тёмные глубины. — Он повернулся и кивнул хирургу. — Приступайте, мэтр Лори.
Мэтр Лори — невысокий жилистый мужчина, одетый во всё чёрное, исключая белоснежный воротник, выступил вперёд и долго, с бесконечными «кхм» и «кхум», объяснял собравшимся, с какого боку следует подступаться к мёртвому, так сказать, человеку. Все успели заскучать. Но вот наконец стол установили чуть в наклон, чтобы собравшимся лучше было видно лицо и тело, простыня поползла вниз, и Бенедикт вздрогнул.
Этого человека он уже видел.
В сущности, история заслуживала отдельного рассказа. Это из-за него он получил тот самый синяк, о происхождении которого только что спрашивал Рем. И пока все сидели, зарисовывая застывшее лицо, Бенедикт и рисовал, и вспоминал.
Это случилось вчера вечером, когда стемнело. Он шёл, пересекая площадь, — возвращался из гостей в свою дешёвую комнатку под самой крышей, думал о прелестном, хотя и несколько исхудавшем личике хозяйской дочери, когда на брусчатку мостовой пред ним упал подбитый голубь.
Голубь! Бенедикт проглотил слюну. Сколько времени горожане пробавлялись грубым хлебом и картошкой! Всех голубей и даже воробьев, всех самых маленьких пичуг истребили ещё в начале осады — подманивали крошками, ловили сетью и на клей... А этот уцелел каким-то чудом. Мелькнула мысль, что это может быть почтовый голубь из Роттердама, но Бенедикт отогнал её, да и письма при голубе не наблюдалось. Это было мясо, настоящее мясо, и его ни в коем разе не следовало упускать!
Тем временем голубь, приволакивая крыло, уже хромал прочь. Бенедикт растопырил руки, бросился ловить его и уже схватил, как вдруг из-за угла показалась стайка пацанов. У двоих или троих были пращи любимое оружие мальчишек при охоте на пернатых, гроза оконных стёкол и соседских кошек.
— Э, да вот он! — крикнул кто-то, имея в виду, очевидно, голубя. Но где голубь, там и Бенедикт. — Эй, не трожь! Это наш голубь, это мы его сбили!
Мальчишек было пятеро, и Бенедикт, сначала отступивший, осмелел:
— Ваш? Что значит — ваш? Это мой голубь, я изловил его!
— Брось птицу!
— Сами пошли вон!
Бенедикт не заметил, как кто-то раскрутил пращу. В следующий миг камень с силой засветил ему в скулу, и ученик художника сел задом на брусчатку. Очки с него слетели. Парни тут же на него набросились, и Бенедикт рассвирепел.
— Ах так? — вскричал он, отбиваясь левой. — Нате! — и подбросил птицу в небеса.
«В небеса» — это, конечно, громко сказано, — ни в какие небеса бедный голубь не полетел, но страх и отчаяние придали ему силы: он захлопал крыльями, сделал пару кругов у пацанов над головами, пал на камни и затрепыхался. Позабыв про школяра, мальчишки тотчас на него накинулись, и между ними завязалась свара. Мелькали кулаки и палки, злосчастного голубя порвали в клочья... и вдруг раздался крик. Четверо мгновенно расступились, тяжело дыша и вытирая кровь из-под носов, а пятый остался лежать, сжимая голову руками. Из-под затылка растекалась красная лужица, а рядом валялся булыган, и кто из четверых хватил его в горячке этим камнем не было известно.
Бенедикт не сразу понял, что произошло. Было темно, а он неважно видел, всё ещё искал свои очки, голова его гудела от удара; глаз лишь чудом уцелел. Зато он услышал, как чей-то взрослый голос вдруг сказал:
— Пропустите меня.
Бенедикт поднял голову, прищурился и разглядел в кругу мальчишек странную фигуру в долгополых одеждах... Монах! — внезапно осенило Бенедикта. Откуда в городе, где управляют реформаты, взяться католическому монаху — этого он решительно не мог понять. Рядом с размытой белой фигурой ученик художника различил ещё какой-то силуэт — видимо, это был пёс, громадный и тоже белый.
— Шухер! — крикнул кто-то, и мальчишки разбежались кто куда.
Монах тем временем нагнулся над побитым мальчишкой и что-то сделал с ним. Что — Бенедикт не видел, только не прошло и минуты, как мальчик вдруг со всхлипом втянул воздух, застонал и начал шевелиться. Собака стояла рядом. Со всех сторон к ним бежали люди: женщины, мужчины, мастеровые, торговцы и просто прохожие:
— Эй! Отойди от мальчика, ты, бернардинская свинья!
— Я хочу помочь, — смиренно ответил он.
— Я тебе сказал: не трожь мальчишку! Не нужны ему твои поганые молитвы!
Толпа загомонила: «Папское отродье!», «Откуда он тут взялся?», «Мало они пожгли наших жён и мужей, теперь за детей взялись!», «Бросим его в Рейн, пускай читает проповеди селёдкам!»
— Да поймите же, — увещевал монах, — он ранен. Принесите кто-нибудь воды!
Мальчишка снова застонал, кто-то подхватил его на руки и унёс. А Бенедикт наконец нашёл очки, надел их и успел увидеть, как широкоплечий дядька не иначе, каменщик — шагнул вперёд, хватил монаха кулаком по голове, и тот упал. Белый посох выпал из его рук и застучал о камни. Эта сцена так и врезалась в цепкую память художника — толпа, мужчина с мальчиком на руках и падающий бернардинец. Белая собака, больше похожая на волка, зарычала, прыгнула и подобралась возле тела, защищая хозяина. Люди ахнули, отшатнулась, но через миг опомнились. Воздух наполнился камнями. Что было дальше, Бенедикт уже не видел. Раздавались удары, кто-то кричал: «Хватай собаку!», другой отвечал ему: «Ищи дурака!» Чья-то рука помогла Бенедикту подняться, отряхнула его камзол и штаны, он бормотал благодарности... Перед глазами всё плыло. В общем, обошлось, даже очки уцелели, разве что в сутолоке у него срезали кошель, но там были только два несчастных патара, и Бенедикт не очень о них сожалел.
Так вот, человек, сейчас лежащий на столе, и был тем монахом.
Урок продолжался. Мэтр Лори с указкой в руках объяснял, где что находится («...мышцы развиты достаточно... бу-бу-бу-бу... habitus astenicum... бу-бу... наличествует худоба...»), ученики хихикали, скрывая робость и смущение, и обстреливали друг друга шариками жёваной бумаги. Бенедикт рисовал, а мысли его были далеко. Он не завтракал сегодня, в животе урчало. Свинец карандаша скользил по бумаге, а Бенедикт представлял себе голубя на вертеле: поджаристую солёненькую корочку, хрустящие белые косточки и дивный аромат жареной птицы. Чтоб отвлечься, он начал вспоминать другие блюда — хэхактбалы, насибалы, хотпот и хаше[98], и амстердамские воздушные пироги из риса, и мамашиного гуся по-фламандски — с чесноком и сливками, и угорька на вертеле с двойным брюжским пивом, и колбаски с белым соусом, и каплуна, и бейтувский студень с гречневой мукой и роммельграудом[99], и горох по-зеландски со шпиком и патокой, и даже «Искушение Янссонса» — запеканку из картошки и солёной рыбы, придуманную в осаждённом Лейдене одной бойкой хозяюшкой и очень популярную в последние три месяца, пока в подвалах города ещё была селёдка и картошка...