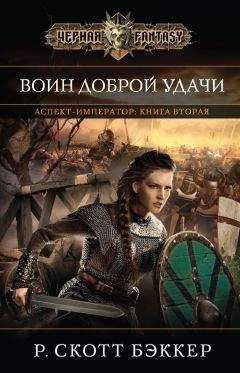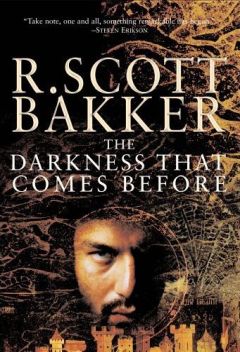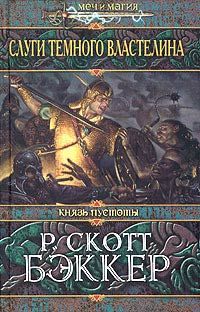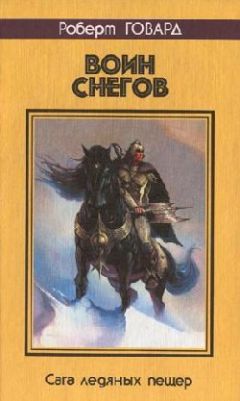Р. Бэккер - Воин кровавых времен
Шрайский рыцарь кивнул, продолжая неотрывно смотреть ему в глаза.
— Просто поговорить о некоторых неприятных вещах, экзальт-генерал.
— Уверяю вас, рыцарь-командор, я обожаю неприятные новости, — усмехнулся Конфас и добавил: — Я, в некотором смысле, мазохист — вы разве не заметили?
Сарцелл обворожительно улыбнулся.
— Благодаря советам этот факт сделался более чем очевидным, экзальт-генерал.
Конфас никогда не доверял шрайским рыцарям. Слишком много набожности. Слишком много самоотречения. Конфасу всегда казалось, что самопожертвование — это даже не глупость, а сумасшествие.
Он пришел к такому выводу в юности, после того как осознал, насколько часто — и насколько радостно — люди вредят себе или даже губят себя во имя веры или сентиментальности. Как будто все прочие получают указания от голоса, которого он сам не слышал, — от голоса ниоткуда. Они совершали самоубийства, когда считали себя обесчещенными, продавали себя в рабство, чтобы прокормить детей. Они вели себя так, словно существовало нечто худшее, чем смерть или рабство, словно они не смогут жить, если с другими случится что-то плохое…
Как Конфас ни ломал голову, ему не удалось ни постичь, ни вообразить это чувство. Конечно же, существовал Бог, Писание и все тому подобное. Этот голос он мог понять. Угроза вечных мук могла послужить толчком для самого абсурдного самопожертвования. Этот голос исходит из какого-то определенного места. Но тот, другой…
Тот, кто слышал голоса, делался безумным. Достаточно было пройтись по любой базарной площади и послушать как странники-богомольцы вопят «что? что?», дабы в этом убедиться. А еще тот, кто слышал голоса, мог превратиться в фанатика — как, скажем, шрайские рыцари.
— И что же вас беспокоит? — поинтересовался Конфас. — Человек, которого они именуют Воином-Пророком.
— Князь Келлхус.
Он подался вперед, не вставая с походного кресла, и жестом предложил Сарцеллу сесть. Сквозь поднимающийся над курильницами дымок благовоний пробивался запах плесени. Дождь притих, и теперь лишь барабанил по парусине шатра.
— Да… Князь Келлхус, — подтвердил Сарцелл, выжимая воду из волос.
— И что с ним такое?
— Мы знаем, что…
— Мы?
Шрайский рыцарь раздраженно прищурился. Конфасу подумалось, что, невзирая на благочестивую внешность, в его манере держаться было нечто такое — возможно, некий оттенок тщеславия, — что вступало в противоречие с изображением Бивня, вышитым золотом у него на груди… Возможно, он недооценил этого Сарцелла.
«Возможно, он — здравомыслящий человек».
Да, — продолжал тем временем рыцарь. — Я и некоторые мои братья…
— Но не Готиан?
Сарцелл состроил гримасу, которую Конфас истолковал как знак согласия.
— Нет, не Готиан… Во всяком случае, пока. Конфас кивнул.
— Хорошо, продолжайте…
— Мы знаем, что вы пытались убить князя Келлхуса. Экзальт-генерал фыркнул, изумленно и оскорбленно. Этот человек либо невероятно храбр, либо нестерпимо дерзок.
— Вот как? Знаете?
— Мы думаем… — поправился Сарцелл. — Как бы то ни было… Существенно иное — чтобы вы поняли, что мы разделяем ваши чувства. Особенно после того безумия, что творилось в пустыне…
Конфас нахмурился. Он знал, что имеет в виду этот человек: князь Келлхус вышел из Каратая, располагая тысячами людей и всеобщим благоговением. Но Конфас не думал, что шрайский рыцарь станет говорить о знаках и знамениях, а не о силе…
Пустыня сама была безумием. Сперва Конфас тащился по пескам наравне со всеми, проклиная чертова идиота Сассотиана, которого назначил командовать имперским флотом, и без конца обдумывал безумные планы, которые должны были помочь ему спастись. Затем, когда надежда, питавшая эти бесконечные и бесплодные размышления, выгорела, Конфаса стало терзать странное неверие. На некоторое время перспектива смерти стала казаться чем-то таким, чему он потакает приличия ради, как тем глупым заверениям, которыми торговцы осыпают свои товары. «Да-да, вы непременно умрете! Я вам гарантирую!»
Затем, одновременно с мрачной апатией — одним из отличительных признаков этого похода, — его сомнения переросли в уверенность. К Конфасу пришло ощущение, которое можно было бы назвать интеллектуальным трепетом — трепетом, сопряженным с завершением жизни. Он понял, что никакой последней страницы не существует. Никакого последнего локтя свитка. Просто чернила иссякают, и все становится пустым и пустынно-белым.
«Итак, здесь, — думал он, оглядывая подернутые рябью барханы, — находится место, к которому я шел всю жизнь. Место, которое ждало меня, ждало с самого рождения…»
Но затем он наткнулся на него, на князя Келлхуса, добывающего воду из песчаных ям. Этот человек нашел выход, когда он, Икурей Конфас, умирал от жажды! Конфас обдумывал множество вариантов, но ему никогда не хватило бы безумия предположить, что его спасет человек, которого он пытался убить. Можно ли придумать большее унижение? Большую нелепость?
Но тогда… Тогда его сердце пропустило удар — оно до сих пор трепетало при этом воспоминании, — и на мгновение Конфасу подумалось: а вдруг Мартем был прав?.. Возможно, в этом человеке и вправду что-то есть. В этом Воине-Пророке.
Да уж. Пустыня была сущим безумием.
Конфас устремил на шрайского рыцаря оценивающий взгляд.
— Но он спас Священное воинство, — сказал принц. — Вашу жизнь… Мою жизнь…
Сарцелл кивнул.
— Верно. В этом, я бы сказал, и кроется проблема.
Крик Серве походил на крик животного, нечто среднее между ворчанием и воем. Эсменет склонилась над ней, гладя девушку по мокрым от пота волосам. Дождь стучал по провисшему потолку их самодельного шатра, и то здесь, то там в полумраке поблескивали струйки воды, стекающие на плетеные циновки. Эсменет казалось, будто они сидят в глубине освещенной пещеры, окруженные заплесневелыми тряпками и гниющим тростником.
Приглашенная Келлхусом кианская женщина ворковала на языке, который, похоже, понимал только князь. Но Эсменет поймала себя на том, что гортанный голос язычницы действует на нее успокаивающе. Она поняла, что в той ситуации, в которой они оказались, разница в языке и вере уже не имеет значения.
Серве вот-вот должна была родить.
Повитуха сидела между раздвинутыми ногами Серве, Эсменет стояла на коленях в изголовье, а Келлхус возвышался над всеми, и лицо его было внимательным, мудрым и печальным. Эсменет обеспокоенно взглянула на него. «Все будет так, как должно», — сказали его глаза. Но его улыбка все-таки не прогнала ее опасений.